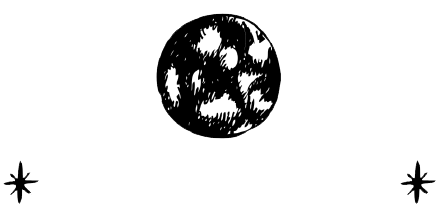Турок пофыркал, но, кажется, не обиделся. Он предложил мне осмотреться. Черная шелковая кисть на его феске покачивалась, как стрелка метронома. Турок сказал, что в его волшебной пещере – так он назвал свою тесную лавку – я смогу найти сокровище себе по вкусу. И, может быть, оно изменит мою жизнь.
Не знаю, говорил ли он, адресуя слова исключительно мне, или это были его коронные фразы, но в тот момент я почувствовала, как пересыхают губы. Как будто кто‑то открыл колдовскую книгу и прочел в ней мое имя.
Турок позволил мне самой гулять среди столов, заваленных удивительными безделушками. Там были опахала из павлиньих перьев, и белесый корень в темном настое, и эмалевые глаза, и вазы, полные стеклянных колокольчиков, восковые цветы, фарфоровые диски с иероглифами, растрепанные свитки рисовой бумаги – оранжевые, алые, желтые. Слишком сумрачной казалась моя жизнь на фоне этих ярких вещиц. Я чувствовала себя вороватой служанкой.
Пока не увидела вещь, которая, казалось, ждала только меня.
Прямоугольник соснового дерева в янтарных разводах. Коричневые готические буквы. Алфавит. Луна и солнце. Знаки планет. Нет и да. Здравствуй и прощай.
Я словно нашла давно утраченное. Мудрого друга, который скажет мне, что правильно в этом непростом мире, а что нет. И сердце с круглой дырой по центру. Кто сказал, что дыра – это пустота, лишенная смысла? Может, это окно, в котором я увижу ответы на все вопросы.
В той лавке я задала их много. И над многими хозяин лавки смеялся. Не со зла, я так и не уловила в его голосе фальши. Ему просто было весело.
Потом меня нашел дедушка. Он не стал спорить. Он не любит это дело, хватает споров по работе. Он просто купил то, чего пожелала моя душенька.
То, во что было бы занятно играть всем девочкам.
То, к чему я прикипела в считаные мгновения.
Доску Уиджа для общения с духами.
Магда
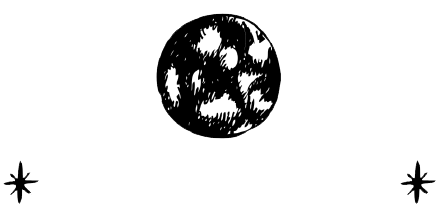
4 октября 1925 г.
Дни шли в тревожном ожидании новостей о пропавшей. Нам неоткуда было получить известия, кроме как от наставниц или приходящих из деревни работников. Но первые следили, чтобы мы не болтали с последними. Исчезновение Юлии обрастало фантастическими подробностями, от которых мне становилось только хуже.
Пансион – герметичная система, в нее мало что проникает извне, но, проникнув, искажается. А то, что оказывается вне его стен и законов… Мне сложно предположить. Мы не затворницы, дважды, а некоторые и трижды, в году отправляемся домой: на Рождество, на Пасху и летние каникулы. Но между этими водоразделами мы принадлежим «Блаженной Иоанне» безраздельно.
Только раз я покидала территорию пансиона без наставницы и одноклассниц. И то утро стало для меня очень важным.
Юлия нарушила главное правило принадлежности – она вырвалась. Или кто‑то вырвал ее с корнем.
Ее родители приехали на следующий день. Я видела их издали, с высоты лестничного пролета. Тихие, блеклые, пожилые. Юлия была их цветочком. Вторым, последним.
Нет, не была! Никто не знает наверняка, но как перестать думать о ней в прошедшем времени?
Юлины родители осмотрели ее комнату. Говорят, она мало что взяла с собой. Будто бежала в спешке, прихватив только минимум одежды. Мать Юлии плакала, ее утешали девочки, наставницы, директриса, ее супруг.