В пятом томе собрания сочинений выдающегося прозаика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Зайцева (1881–1972) публикуются его знаменитые романы-биографии «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), «Чехов» (1954), а также статьи об этих писателях, дополняющие новыми сведениями жизнеописания классиков. Том открывается мемуарным очерком известного философа и публициста русского зарубежья Федора Степуна.

v 2.00 — изготовление fb2-файла (17.06.2015), публикация на Флибуста (21.06.2015).
v 2.01 — правка описания, улучшение обложки, вставка иллюстраций из PDF-версии, генеральная уборка. (30.06.2023).
Борис Константинович Зайцев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
Том 5. Жизнь Тургенева

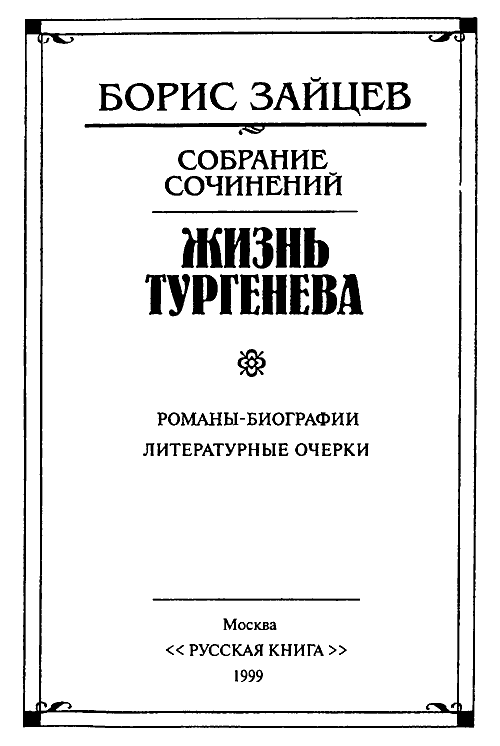
Ф. Степун. Борису Константиновичу Зайцеву — к его восьмидесятилетию[1]
Всякий подлинный писатель, писатель от рождения и по призванию, отличается от пишущего и пописывающего рассказы, романы и статьи дилетанта тем, что его можно сразу же узнать по тому особенному воздуху, которым дышат его строки и который мы вдыхаем, читая его. Б. К. Зайцев большой, настоящий писатель, потому что все его вещи исполнены своей особой атмосферы и написаны особым почерком. Было бы, однако, неверно говорить, что почерк Зайцева во всех вещах один и тот же. Почерки «Голубой звезды», «Улицы Святого Николая», «Анны» и «Древа жизни» весьма различны: все они явно зайцевские, но Зайцев являет себя в них весьма по-разному. Если бы это было не так, зайцевский стиль давно превратился бы в манеру. В превращении стиля в манеру еще Гете усматривал смерть искусства.
Для стиля Зайцева характерен задумчивый, подернутый грустью лиризм. Зайцевская печаль всегда медитативна. Эти свойства Зайцева усиливаются по мере приближения описываемого сюжета к России. Лиризму не свойственны размашистые жесты и внезапные удары голоса. В лиризме Зайцева больше вздоха, чем стона. Печаль его светла.
Природа лиризма родственна природе музыки. «Голубая звезда» и «Дом в Пасси» исполнены зайцевской музыки. С этой музыкой связана и степень пластичности выведенных им персонажей. Они очень видны, очень пластичны, как в психологическом, так и в социологическом смысле. Но они пластичны пластичностью барельефа, а не скульптуры. Они как бы проплывают перед читателем, но не останавливаются перед ним. Они не скульптурны. Их нельзя обойти кругом. В искусстве Зайцева, взятом в целом, нет толстовского начала. Но это не недостаток его творчества, а его особенность, связанная прежде всего с религиозной настроенностью его души. Двухмерное изображение Алексия Божьего человека на иконе вполне естественно, но Божий человек, трехмерно высеченный из мрамора, уже проблематичен.
Особенной взвихренной музыкой исполнена «Улица Святого Николая». Короткие предложения, все главные, придаточных нет, несутся с быстротой предгрозовых туч: «Страшный час, час грозный — смертный час — призыв». Но эта взволнованная революцией музыка исполнена, что, может быть, не каждый сразу заметит, чуть ли не в каждой фразе молниеносными анализами октябрьских дней. Даны и партии и отдельные люди. Слышен бокальный звон предреволюционных либеральных банкетов в «Праге», но и тяжелый шаг командора подходящей революции.
Зайцева очень часто называют акварелистом. Это определение верно, как характеристика общего фона зайцевского творчества. Но вот «Анна», — одна из лучших, написанных Зайцевым, но, быть может, не типичных зайцевских вещей, — очень далека от акварели. Это уже настоящая масляная техника. В этой повести первых революционных лет все образы трехмерны; они не реют в воздухе, но тяжело оседают к земле. Латыш-фермер, честная докторша, от которой пахнет гуманизмом и йодоформом, горячая русская девушка Анна — все эти образы исполнены стереоскопической пластичности. Сцена, в которой Марта с Анной режут свиней, чтобы они не достались Советам, написана так, что сквозь нее видно, как большевики убивают людей. Второй такой вещи у Зайцева нет, но ее отголоски есть в других рассказах того же периода.
«Тишина», «Древо жизни» — это возврат Зайцева на свою исконную духовную родину, возврат в предреволюционную Россию, в близкую Зайцеву с юных лет греко-латинскую Европу и в православную церковь. Триединому образу этого мира, как он раскрывается не только в беллетристических произведениях Зайцева, но прежде всего в «Афоне», в книге об Италии и в его трех монографиях о Жуковском, Тургеневе и Чехове и посвящена, в качестве привета Зайцеву к его восьмидесятилетию моя статья.
Когда Глеб, как Б. К. Зайцев именует себя в своем автобиографическом романе «Путешествие Глеба», после тяжелой болезни в 1922 году уезжал за границу, он, вероятно, надеялся, что еще вернется, как надеялись и мы, осенью того же года административно высланные писатели и ученые. Мечты всех нас не сбылись и утешать себя надеждой, что они еще сбудутся, больше не приходится. Но все же есть у нас свое эмигрантское утешение, которое я благодарно почувствовал, перечитывая наиболее любимые мною произведения Бориса Константиновича. Большевистская власть изгнала Зайцева за пределы родины, но родина, породившая и выпестовавшая его, ушла с ним на чужбину и на чужбине явила ему свое «заботой отуманенное прекрасное лицо».
«Эмиграция, — пишет Зайцев, — дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную — давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее в глубь времен — Россию „святой Руси“, которую без страдания революции, может быть, и не увидел бы никогда».
«Святая Русь» — термин славянофилов, еще в большей степени термин Достоевского, но у Зайцева он значит нечто иное. В зайцевском патриотизме нет ни политического империализма, ни вероисповедни-ческого шовинизма, ни пренебрежительного отношения к Европе. Его патриотизм носит чисто эротический характер, в нем нет ничего, кроме глубокой любви к России, даже нежной влюбленности в нее, тихую, ласковую, скромную и богоисполненную душу русской природы, которую Зайцев описывает отнюдь не как «передвижник»-реалист, но с явным налетом творческой стилизации. То, что он говорит о русском яблоневом саде, распространимо на всю русскую природу. Вся Россия для Зайцева — некий «скромный рай». Метель у него не просто метель, а некое «белое действо». Ока впадает у него не в Волгу, а в вечность, жеребенок на холме — не просто жеребенок, а призрак. «Орион», «Сириус», «голубая звезда Вега» вечно сияют у Зайцева над скромной нищетою русской земли, удостаивая ее и украшая за ее тишину.
Особенность зайцевских описаний природы в том, что, несмотря на их чуждую Чехову тронутость «символическими ознаменованиями», они никогда не теряют своей простоты и естественности и не приобретают патетического или хотя бы только возвышенного характера. Вот завязло колесо телеги в непролазной русской грязи, застрял на этом колесе и глаз писателя, а он восклицает, даже с каким-то особым лирическим волнением: «Что же поделаешь! Это родина, Россия!» Так восклицает, что невольно и сам подумаешь: не дай Бог начать у нас прокладывать шоссе или строить вместо задумчивых паромов железнодорожные мосты через реку. Тогда все пропадет.
Редкая среди русских писателей начала века встреча близкого Чехову импрессионистического реализма с явно символистическими моментами указывает на то место, которое Зайцев сразу же занял среди близких ему писателей.
Хотя Зайцев, как он рассказывает в заметке «Молодость — Россия», принадлежал к московской группе писателей-реалистов, генеральный штаб которой находился в горьковском издательстве «Знание», он с ними имел мало общего, хотя в молодости и отдал обязательную дань революционным увлечениям. Подобные черной молнии буревестники никогда не носились над его творчеством; в своих романах он никогда не занимался социальными анализами политической и экономической отсталости России, очень отличаясь в этом отношении от Горького, Шмелева, Куприна, Юшкевича и многих других. Стоя политически на правом фланге этих писателей-общественников, он, однако, как сам отмечает, вместе с Леонидом Андреевым представлял собою «левое модернистическое крыло», как стилистически, так и миросозерцательно очень еще далекое от символизма, но все же чем-то с ним перекликающееся. Сближая себя с Андреевым, Зайцев сближает Андреева с Александром Блоком.
«На самых верхах культуры, — пишет он, — Блок, может быть, выражал уже роковую трещину, которую простодушнее и провинци-альнее выражал Леонид Андреев: все-таки они друг к другу тяготели, что-то у них было общее».
Это общее, соединявшее Блока, Андреева и Зайцева, было, как мне кажется, не столько ощущение «роковой трещины», которую чувствовали и все социалистические буревестники, сколько чувство наличия в жизни и прежде всего в истории некоей сверхисторической реальности. Блоку это чувство подсказало образ Христа во главе красноармейцев: