Огненный перст
– Отведи-ка ее в шубную. Ждите там…
Святослав повернулся к послу, налил в чашу еще вина.
– Пойдем, преосвященный. Покажу тебе шубную камору, где у нас с зимы соболя-куницы хранятся.
А заодно узришь, какова она – русская сила.
И подмигнул.
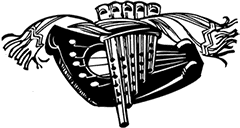
Живка
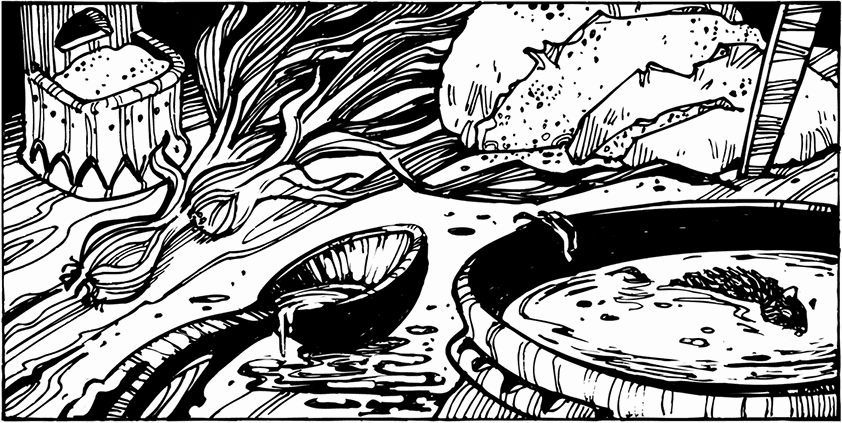
Ночью, неслышно семеня через холодные сени в нужный чулан, Живка опять его видела. Егория Угрина.
Как в прежние разы, отрок просочился через стену и замер. Перед собою обеими руками держал голову. Была она страшна, но в то же время прекрасна. Цвет лица беломатов, вежды скорбно сомкнуты, алый рот приоткрыт.
Живка так напугалась, что обмочилась под своей длинной рубашкой. Но крикнуть не крикнула. Не было у нее привычки кричать, даже когда было очень страшно или очень больно. Жизнь приучила всегда быть тихой. Когда тебя не слышно и не видно, целее будешь. Иногда мечталось о шапке-невидимке. Чтобы самой быть, но чтоб никто не знал, что ты есть.
Чего она так мертвого угрина боялась, она и сама не знала. Никогда он ей злого не делал, не то что живые люди. Покажется, да через короткое время растает. Молча.
К тому ж известно: не за ней он сюда, на Убогое подворье, является. Это сейчас оно убогое, для самых распоследних челядинцев великокняжеского обихода, потешных калек-игрецов, а в прошлые времена, при Владимире Красно Солнышко, здесь был важный терем и держали в нем с почетом, но под крепкой стражей мятежного княжича Святополка Владимировича. Давно это было, лет тридцать или, может, сорок назад, но старые старушки помнят. Рассказывают, что молодой князь ласков был, речами тих, ступал по горницам мягко, будто кот. Умел всякому человеку в душу влезть. И окрутил своих тюремщиков, вышгородских бояр, склонил посулами и умильными словами на свою сторону.
Когда князь Владимир преставился, здешние бояре объявили Святополка великим князем, а его меньших братьев, Бориса и Глеба, злодейским образом умертвили. Егорий этот, отрок угорской крови, при Борисе служил и до последнего издыхания за своего господина бился. За это враги его мечами-копьями пронзили, а голову с плеч срезали уже мертвому, чтобы снять с шеи златую гривну.
Вот зачем он, угрин, сюда ходит. Ищет Святополка, желает спросить: где, мол, брат твой, а мой господин? И невдомек бедному, что окаянного Святополка здесь давно нету, сгинул в бегах, в чужих краях, невесть где, а князь Борис погребен в вышгородском храме. Разве сыщешь, кого тебе надобно, если голова с плеч снята и очи затворены?
В этот раз Живка, хоть и в мокрой рубашке, хоть и трепетно, но все же успела шепнуть: «В Васильевскую церковь ступай. Борис ныне там!». Но Егорий Угрин растаял, и слышал ли, нет – Бог весть.
Идти в нужник теперь было незачем. Вместо этого побежала Живка в морозные сени, где бадья с водой. Разбила локтем ледок, замыла рубаху. Не то утром заметит Радуша, над служанками старшая, будет бранить, за волосы таскать, башкой об стену бить.
Дрожа от холода, бесшумно, вернулась в большую ложницу, где спали все бабы, девки и девчонки Убогого подворья: кто постарее на печи, другие на сундуках и лавках, а некоторые так на полу.
Вдохнув густой от людского множества и печной топки воздух, Живка забралась на свое место – под лавкой, на которой лежала Кикимора. Мокрая рубаха липла к телу, мерещился безголовый отрок, да еще горбунья наверху всё ворочалась, скрипела, во сне постанывала. Поди-ка, усни. А еще так есть хочется…
Живку продали княжьему тиуну позапрошлой осенью, когда девчонка подросла настолько, чтоб работать. Год был несытый, впереди сулилась тощая зима и страшная весна, которую то ли переживешь, то ли нет. Маманя, прощаясь навек, сказала: «Голодовать не будешь».
Голодать Живка не голодала, но и досыта не ела. Во всем огромном дворцовом хозяйстве, где по теремам, дворам, житницам, погребам, кухням, медушам, баням, прачешным, кузням, конюшням, скотням трудилась и кормилась тыща народу, ее место было из последних последнее: прислуживать уродам с Убогого подворья. Своей миски с ложкой, и тех Живке не полагалось. Тут кусок кинут, там краюху подберет – тем и перебивалась. Но, конечно, всё равно сытней, чем в деревне. Еды кругом было много, если глядеть востро и страха не иметь – только тащи. Но Живке смелости не хватало. Да и мала еще была, девятый год всего.
Только-только стала засыпать, перед закрытыми глазами начали кружить предсонные видения – Горбунья как вскрикнет. Что ж ей, злыдне, спокойно не лежится? И всё ворочается, ворочается. Сама тяжелая, грузная, будто кадушка. Ишь, разожралась. Раньше скамья под ее тушей так не провисала. Скрипит-скрипит, кряхтит-кряхтит, стонет-стонет. Десять раз за ночь разбудит. А попробуй-ка саму ее потревожь. Свесится – и кулаком. Кулак у горбуньи каменный.