Британские врачи к деятельности Шарко относились скептически. Концепция истерии как функционального расстройства критиковалась авторитетными английскими авторами за излишнюю широту определений, допускавшую применение этого диагноза при очень многих патологических состояниях. Самуэль Уилкс (1824–1911) отдельно разобрал тему истерической потери чувствительности в статье 1883 г.[259], в которой он приводит несколько клинических случаев одностороннего паралича. С точки зрения Уилкса, то, что французы во главе с Шарко называют истерической потерей чувствительности, является следствием органического дефекта в одном полушарии головного мозга. В металле или любом другом материале, используемом в работе с истеричками, нет ничего такого, что производило бы целебный эффект. Главное, что происходит в известных случаях излечения от истерического паралича — это шокирующее переживание, которое активирует определенные участки мозга. Причем в одном из описанных Уилксом случаев источником шока было не лечение, а отсутствие лечения.
Уилкс рассказывает о школьной учительнице, которая в течение нескольких лет время от времени переживала приступы потери чувствительности в конечностях. Кроме того, она страдала от головной боли, тошноты, боли в спине, нарушений менструального цикла. Когда ее госпитализировали, чувствительность отсутствовала во всей правой части ее тела. Семь месяцев она получала все доступные виды лечения, в том числе металлотерапию (были испробованы серебро, медь, цинк, свинец, железо). Не добившись никакого результата, врачи отпустили ее домой в том же состоянии, в каком она была принята в больницу. Через несколько недель мать пациентки уговорила Уилкса опять положить ее в больницу: «Я принял решение использовать свой проверенный метод, — пишет Уилкс. — Метод заключался в том, чтобы дать ей моральный урок, отказавшись от любых медицинских средств, поскольку они часто только закрепляют истерическое состояние. Я не сделал никаких назначений и систематически проходил мимо ее постели, говоря так, что она могла расслышать, что больше не могу заниматься ею, ведь так много по-настоящему больных людей нуждаются в моем внимании.
На самом деле я специально ее игнорировал, и в один день, спустя две или три недели, я увидел, что она встала с постели, оделась и сидит на стуле рядом. Я заговорил с ней, и она сказала, что может немного ходить и думает, что к правой стороне тела возвращается чувствительность. Я сказал, что доволен тем, как у нее идут дела, и выразил надежду на то, что она вскоре полностью выздоровеет»[260].
Так и произошло. Пациентка, шокированная пренебрежительным отказом в лечении, выздоровела. По мнению Уилкса, ее состояние сильно ухудшилось в тот момент, когда она стала объектом внимания многих врачей, захотевших проверить на ней новый метод металлотерапии. Вместо того чтобы относиться к ней с повышенным интересом, нужно было проявить максимум пренебрежения и продемонстрировать ей, что о ней забыли и не хотят вспоминать. Это и оказалось идеальным лечением, потому что именно такая ситуация произвела необходимое шокирующее действие на мозг: «Это было больше, чем она могла выдержать. Ее мысли о том, что она две недели лежит в постели, и никто о ней не заботится, пробудили ее дремлющую волю и, следовательно, были именно тем стимулом, в котором она нуждалась»[261].
Уилкс объясняет принцип действия шока, обращаясь к детским воспоминаниям. У его одноклассника были карманные часы, которые, если их резко доставали из кармана, переставали работать. Чтобы вновь запустить механизм, нужно было их встряхнуть или стукнуть по ним: «Баланс сохранялся в состоянии нестабильного равновесия, и оттого они были готовы остановиться или возобновить ход от любого резкого воздействия. Мозг несчастных истеричных людей, кажется, подобным образом прекращает работать из-за шока и возобновляет работу после другого шока»[262].

15.0 Евгеника
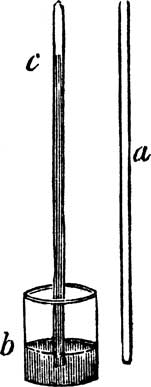
Следовательно, лучшее лечение — это переселение в то место, где о пациенте будут заботиться. Такие места по-английски называли
Впервые об «asylum» как о месте, дающем исцеление, пишет Уильям Батти в «Трактате о безумии» в 1758 г. Он пишет о том, как важно организовать порядок в таком месте, потому что разумно упорядоченный быт сам по себе оказывает лечебное воздействие на умалишенных людей. Правильная организация делает больше, чем лечебные средства («management did much more than medicine»[263]; условно смысл можно передать так — «обращение важнее лечения»).
Создатели первых лечебниц для психически больных исходили из того, что они имеют дело с той единственной сферой медицины, в которой лечение дома всегда хуже, чем лечение в стационаре. В конце XVIII в. в соматической медицине не было таких диагностических и лечебных инструментов, которых врач не мог бы принести в чемоданчике, навещая пациента. Напротив, в хорошо оборудованном приюте для умалишенных были невообразимые в простом доме душ или ванна для гидротерапии.
Поначалу приюты, прообразом для которых был основанный в 1796 г. в Йорке британскими квакерами Ритрит, успешно выполняли свои функции. Но бывает так, что в какой-то момент успешность мероприятия начинает работать во вред дальнейшему развитию. Это хорошо видно на американском примере. Все больше и больше семей стали приводить своих больных родственников в американские приюты в 1860–1870-х гг. «Убежища» переполнились опасными, неконтролируемыми людьми. Похожий процесс происходил и в западноевропейских странах.
Из-за превращения приютов в модернизированные бедламы до печально низкого уровня упал престиж психиатрии. Работа алиениста в общественном мнении связывалась с бесперспективной и безрадостной деятельностью, похожей на работу сторожа в зоопарке. Пресса энергично раздувала огонь скандалов вокруг разного рода злоупотреблений в психиатрических лечебницах. Сильнее всего репутации психиатров вредили истории о насилии, применявшемся в отношении пациентов. Каждый такой скандал добавлял мрачных оттенков портрету типичного психиатра.
Внутри врачебного сообщества психиатру тоже было неуютно. Вся область его деятельности критиковалась неврологами, которые, помимо научно-методологического превосходства, ощущали, по крайней мере в США, превосходство социальное. В то время как круг пациентов психиатра практически полностью состоял из нищих маргиналов, неврологи работали с состоятельными клиентами.
О сложностях с укреплением авторитета психиатрии можно судить по некоторым выражениям из эмоционального выступления психоневролога Айры Ван Гизона (1866–1913), директора основанного в 1895 г. Патологического института штата Нью-Йорк — первой в истории США организации, занимавшейся исследованием и одновременно лечением психических болезней. В докладе, составленном для администрации штата, Ван Гизон обосновывает необходимость создания института и отмечает анахроничность психиатрии того времени. В самом слове «asylum» проявлялось устарелое представление о целях психиатрии: «Воспоминания, связанные со словом «приют», все еще остаются в народном сознании. Несмотря на просвещенность современных больниц для душевнобольных, обычные люди все еще противятся тому, чтобы приводить пациента в учреждение для «безумных», пока болезнь не станет серьезной, даже опасной. Приют рассматривается как крайняя мера и используется в более или менее вынужденных обстоятельствах»[264].
Разница между «приютом» и «больницей» примерно та же, что между русскими словами «ухаживать за больным» и «лечить больного». Строго говоря, врачам в приюте делать нечего, потому что там содержатся неизлечимые люди.
Но главная проблема была не в том, что, в отличие от Германии, в США нет клиник, подходящих для изучения психических болезней, а были только приюты, где скапливались сотни людей на безнадежных стадиях болезни. Проблема американской психиатрии (свойственная и другим западным национальным психиатрическим школам того времени) в том, что в ней практически ничего не происходит в научном отношении.
«Психиатрия отстает от всех других отраслей медицины как в отношении ценных фактов, так и в отношении научных теорий; ей не хватает даже спекуляций и гипотез, плодотворных ростков научного прогресса <…> Эта критика исходит от представителей других направлений медицины, и среди них особенно выделяется невролог, который, погруженный в свою собственную ограниченную и, с его точки зрения, самую важную науку, забывает, что прогресс психиатрических исследований зависит от его достижений»[265].
Иными словами, за неразвитость психиатрии отвечают те, кто до сих пор не предоставил ей материал для обобщений. Неврологи, бросающие камни в психиатрию, сами виноваты в том, что у психиатрии такой узкий научный базис. В будущем психиатрия, как говорит Ван Гизон, будет «королевой нейро-патологических и психологических наук». В ней будут сведены в единый комплекс знания, собранные всеми специалистами, которые занимаются различными аспектами нервной системы и поведения человека.