После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II
Военные итоги года для России были ужасны, но не лучше обстояли и дела внутри страны.
Первоначальный патриотический энтузиазм продержался очень недолго – его развеяли досадные вести с войны. Вину за неудачи Общество, как обычно в подобных ситуациях, возлагало на правительство и правителя. Если в феврале авангард Общества, земцы-конституционалисты, призывали соотечественников поддержать войну, то летом разразился нешуточный скандал: удар по патриотизму нанес высочайший этический авторитет Лев Толстой.
Писатель опубликовал – что было особенно неприятно, в английской газете (русская, впрочем, и не напечатала бы) – письмо под названием «Одумайтесь», в котором излагалась чрезвычайно непатриотичная идея о том, что смысл человеческой жизни не в следовании русским, китайским или японским интересам. «Если есть Бог, то Он не спросит меня, когда я умру (что может случиться всякую секунду), отстоял ли я Юнампо с его лесными складами, или Порт-Артур, или даже то сцепление, называемое русским государством, которое Он не поручал мне, а спросит у меня: что я сделал с той жизнью, которую Он дал в мое распоряжение, употребил ли я ее на то, что она была предназначена?».
Проправительственная пресса, разумеется, стала выяснять, на чью мельницу льет воду его сиятельство, публикуясь во враждебной прессе. «Московские ведомости» возмущенно писали: «…Гр. Толстой – противник войны; но он давно уже перестал быть Русским, с тех пор, приблизительно, как он перестал быть православным… Если он еще живет в пределах России, то это объясняется лишь великодушием Русского Правительства, чтущего еще бывшего талантливого писателя Льва Николаевича Толстого, с которым теперешний старый яснополянский маньяк и богохульник ничего общего, кроме имени, не имеет».

Капитуляция Порт-Артура.
Однако у Общества толстовский демарш протеста не вызвал. К этому времени оно уже вернулось обратно, в оппозиционное русло.
Поворотным моментом стало убийство ненавидимого интеллигенцией Плеве. 15 (28) июля министра подорвал бомбой эсер Созонов. Не только революционеры, но и либералы встретили террористический акт рукоплесканиями.
После долгих колебаний царь назначает министром князя Святополк-Мирского, который намерен действовать «пряником». Поддержка Общества правительству необходима – как уже говорилось, к этому времени стало ясно, что война будет долгой и тяжелой, внутреннего разлада допустить нельзя.

Убийство Плеве.
В главке «Брожение» я рассказывал, что смена внутриполитического курса привела не к согласию, а к еще большей политизации Общества. Военные неудачи, следовавшие одна за другой, укрепляли обычное для кризисной ситуации настроение «так жить нельзя».
Рабочие бастовали, интеллигенция почти не таясь создавала политические союзы, боевики готовили новые покушения.
Из важных событий невоенного и неполитического свойства нужно упомянуть два, одно печальное и одно радостное.
Пятнадцатого июля умер Антон Чехов, немного не дожив до звездного часа той самой интеллигенции, которую он так любил и над которой так зло смеялся (и то, и другое она вполне заслуживала).
Двенадцатого августа вся страна ликовала, потому что у самодержца наконец родился сын. Старшие дети, четыре девочки, согласно закону о престолонаследии, учрежденному Павлом I, на корону претендовать не могли, и до этого дня наследником считался царский брат Михаил. Уже в двухмесячном возрасте обнаружилось, что маленький Алексей унаследовал гемофилию, переданную по материнской линии. От этой болезни только что скончался двоюродный брат цесаревича, четырехлетний немецкий принц Генрих. Лечить наследника сможет только «святой человек» Григорий Распутин.
Тысяча девятьсот пятый год
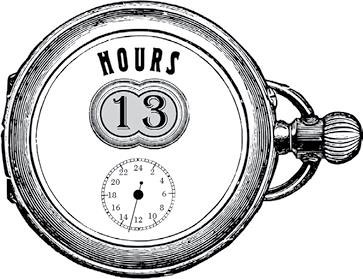
В марте разразился Танжерский кризис, на время отвлекший внимание Европы от русских и японцев. Франция, в девятнадцатом веке захватившая Алжир и Тунис, теперь подбиралась к Марокко. Она уже договорилась с Англией, Италией и Испанией о разделе Северной Африки, но тут внезапно предъявила свои претензии Германия. Вильгельм II, виртуоз «монархической дипломатии», прибыл с внезапным визитом к марокканскому султану Абд аль-Азизу и предложил ему свою защиту.
Дело было не только в протекторате над Марокко, стратегический замысел кайзера был намного обширней. Германский Генеральный штаб уже разработал «план Шлиффена», рассчитанный на быстрый разгром Франции, воюющей в одиночку. У России руки были связаны Дальним Востоком, оказать союзнице поддержку она не смогла бы. Это означало, что альянс развалится, а если Париж заупрямится – тем хуже для него. Возникла угроза большой европейской войны – первый раз в новом столетии. (Французы не пойдут на обострение, вопрос о контроле над Марокко «повиснет», франко-русский союз удержится, но несколько месяцев дипломатическая обстановка была нервозной.)
Летом в Европе возник новый очаг напряженности – запахло войной в самом тихом углу континента, Скандинавии. Норвежский парламент проголосовал за разрыв унии со Швецией. В обеих частях бывшего единого королевства началась мобилизация. Но осенью скандинавы договорились между собой и поставили памятник в честь того, что сумели расстаться без войны. В начале XX века это действительно могло считаться серьезным поводом для гордости. (Сегодня, пожалуй, тоже.)
Для России этот год был драматичным. Военные, революционные и общественные потрясения происходили беспрерывно, а иногда и одновременно.
Начнем с войны.