Но не вышло.
Заметим прежде всего следующее: ни одной из опытных повитух не удалось продать ста колыбелей. Ни одной из них не посчастливилось продать и десяти колыбелей. Ни одна не продала даже пяти колыбелей. Более того, все сорок тысяч повитух не продали и по одной колыбели. И даже: каждая
Одну-единственную колыбель продала только одна из всех сорока тысяч опытных повитух — Анна Ротбархова, из местечка Св. Мартин в Каринтии, но ее заказ и по сей день остался невыполненным. Кроме того, Пепик получил еще и письмо. Одно-единственное письмо! Оно было из Фехердёрмата, на венгерском языке, и Пепику перевел его жандармский вахмистр.
В этом по-стариковски путаном письме, выведенном большими дрожащими буквами, было сказано следующее:
«Мой дорогой сыночек!
Так, значит, Ваша мамочка все же вышла замуж за гонведского фельдфебеля, а я всегда думала, что она осталась девицей, к тому же одна дама говорила мне, сорок лет тому назад, что она умерла где-то в Буковине. Так, выходит, она попала в Чехию, а Вы ее сын. Я этому очень рада. Мы с Вашей мамочкой пятьдесят лет тому назад вместе служили в будинском родильном заведении, и когда я вспоминала старые годы, то плакала навзрыд. Плакала и когда читала Ваше прекрасное письмо о том, что Вы желаете нам помочь. Но придумайте лучше что-нибудь другое, потому что из этого толку не будет. Здесь, где я живу, ни у кого нет колыбелей, у всех колясочки. Кланяйтесь папочке, он, конечно, помнит меня, мы ходили с Вашей мамочкой всегда вместе, и я частенько танцевала с ним в трактире «У гайдуцкой невесты». Я Вам очень кланяюсь, и дай Вам всемогущий бог счастья и здоровья.
Глаза Пепика чуть не вывалились из орбит, точно так же, как в свое время глаза членов правления семильской кредитной кассы от названной им цифры — сорок миллионов крон.
Да, то было страшное известие. Тем более ужасное, что Пепик начинал подозревать пана почтмейстера в том, что последний не только не отправил его сорок тысяч писем, но сжег их тайком.
Это был страшный удар, удар, подобный взрыву двух тонн экразита. Созданные фантазией Пепика роскошная фабричная труба из огнеупорного кирпича и собственное производство взлетели в воздух. От них не осталось и камня на камне. В письме старой акушерки из Фехердёрмата была жестокая правда.
Итак, колыбели — это обман! О, как низко обманывают доверчивых людей поэты, писатели, художники и другие опытные мошенники от искусства! Колыбелей никаких нет! Вот потому-то и в Семилях четыре похоронных бюро и ни одной колыбельной мастерской. Никаких колыбелей нет и никогда не было! С тех пор как стоит свет, маленьких детей укладывают в кровати и кроватки, в колясочки, на подушки, засовывают в полуоткрытые ящики комодов и диванов, кладут в бельевые корзины, в корыта, в коробки, стелят им в углу жилища на мешках и старых полушубках, а в горах баюкают на подвешенном к деревянной перекладине головном платке… но с тех пор как существуют люди на земле, их не укачивали ни в каких специальных колыбелях! И разве можно после этого верить поэтам? Почему же ни один из них не написал: «В оные дни колясочка, ныне могила народа», или же: «Над корзинкой моего ребенка»? Итак, Пепик попался на удочку литературной мистификации, а семильской кредитной кассе это стоило тридцать тысяч крон.
Казалось бы, Пепик обрел святое право ненавидеть всех поэтов, начиная с Коллара. Но нет, он не сделался их врагом. Пепик сохранил оптимизм. Вспоминая свою коммерческую неудачу, он только смеется: «Ну и что же, зато есть что вспомнить!» В конце концов все это ему не стоило и копейки.
А семильская касса? Ну, касса, разумеется, прогорела. И тридцать тысяч, ссуженных Пепику, отнюдь не явились единственной причиной. Подобного рода фантастических бастионов против германизации было на Изере и Олешке очень много. Их было столько, что, существуй они на самом деле, о них разбили бы в кровь свои головы и Арминий, и Карл Великий, и Барбаросса, и Отто, и Фриц, и Блюхер, и Мольтке, и Гинденбург, и «Толстая Берта», и Стиннес{115} — поодиночке и все вместе.
В тот день, когда в Семили приехали из Праги четыре господина, чтобы произвести в кассе ревизию, пан «директор в отставке» Поразума совершал вечернюю прогулку по булыжной мостовой главной улицы в обществе пана аптекаря. Это были два последние старочеха в Семилях, и, когда они на минутку остановились, пан директор в сердцах так застучал палкой с серебряным набором по мостовой, что раздался звон, и сказал: «По разуму ли вам, глубокоуважаемый пан аптекарь, вспомнить мои пророческие слова на памятном заседании в ратуше? Я всегда неотступно провозглашал тот принцип, что рыба портится с головы и ее надо отсечь твердой рукой!»
Под рыбьей головой, которую требовалось отсечь, подразумевался бургомистр Срнец.

АННА ПРОЛЕТАРКА
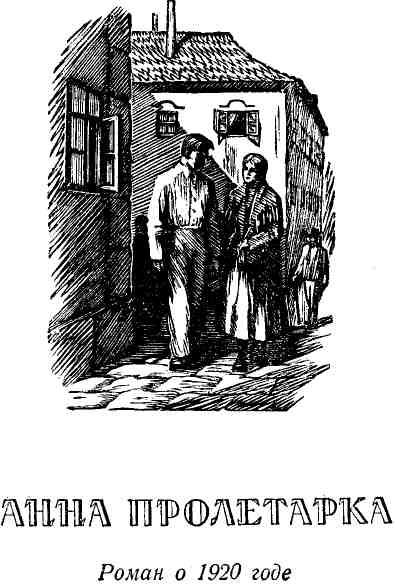
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
«Анна пролетарка» — роман о революционном 1920 годе в Чехии. Сейчас, через двадцать пять лет, перечитывая его и стилистически (только стилистически) выправляя для нового издания, я кажусь себе одним из эпизодических персонажей этого романа, старым ткачом Оуграбкой, который тоже, в обстоятельствах уже совершенно иных, возвращался к воспоминаниям о том, каков был мир и рабочее движение пятьдесят лет назад. Как и он, я отмечаю: какие перемены со времен 1920 года! Как поразителен этот поход, проделанный за четверть века, — все вперед и вперед!