И все-таки Тургенев живет — даже достойно живет. Надежд нет, но нет и озлобления (при этом человек он неверующий). Скорее смирение. Муки и безнадежность смиряли. Он даже кое-что пишет. (Из «Стихотворений в прозе», начатых довольно давно, еще в 78-м году.) Охотно переписывается — тон писем ровный, тихий, может быть, становится и несколько «надземней» (хотя сообщает он о мелочах бытия, о болезни и т. п.). Савина обвенчалась, наконец, со своим Всеволожским. За ласковые письма Тургеневу в беде зачтется ей немало грехов. Она давала ему улыбку, да и нежность. (Думаю, писала правду.) Вот, например: «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже,
Чем объяснить, что молоко, все-таки, помогло ему? Июль, август шли легче. Даже надежды появились. Мог он немного вставать, ходить. Врачи упорно твердили, что опасности нет, а надо терпеть: болезнь нервная, ей подвержены на склоне лет многие артисты, писатели, художники. Тянуться она может долго. Надо пить молоко да ждать. Он ждал с терпением. И написал в этот промежуток последнюю свою истинно замечательную вещь «Клару Милич».
В ней всегдашне-тургеневское — неразделенная любовь и потрясающее чувство загробного. Не райского, а грозного. Клара опять не Беатриче. Она магическая женщина, но сама не насытившаяся любовью. Находит ее в Аратове — ему единственно и может ответить, но как раз он и глух. Не почувствовал, не полюбил ее при жизни Аратов! Он еще так молод, сам не знает любви. Оба они девственники. Она отравляется. И из-за гроба «берет» его — дух ее, являясь по ночам, мучит Аратова и дает не испытанное ранее блаженство. Сводит с ума и из жизни уводит.
Клара изображена сумрачной, черноволосою «цыганкой». Брови у ней почти срослись на переносице. Над губой черные усики. Голос — контральто. Она неласкова, горда, властна (может быть, и у Полины над губой был пушок). Магнетический ее взор чувствует Аратов еще на музыкальном утре, где впервые ее видит. Она не очень нравится ему — именно тем, что и трагическое есть в ней, и от «леди Макбет». (Она поет, между прочим: «О, только тот, кто знал свиданья жажду…») Но вот именно ее и сразил скромный Аратов — и сам погиб.
Повесть окончил Тургенев в сентябре. Назвал «повестушкой», будто бы «кропал» ее (обычная его манера говорить о своих писаниях) — но понимал, что дело тут серьезное. Удивительно, как сильно он боролся! Литературу никак не хотелось отдавать. Для жизни, женщины, для любви он уже «устрица, приросшая к скале». Но не для литературы. Кончив «Клару», отбирает Стасюлевичу для «Вестника Европы» те «Стихотворения», где меньше личного. Переписывается с Топоровым насчет собрания сочинений — Глазунов издает их. Из России высылает ему Топоров том за томом корректуры. И несмотря на боль в лопатке перечитывает, правит, чистит свои строки (свою жизнь). «Записки охотника», «Рудин», «Отцы и дети», повести, пьесы, рассказы — сорок лет бытия, лучшее, что было в нем. Отказаться от этого нельзя и на смертном ложе.
Осенью жил он в Буживале один. (Виардо рано переехали в Париж… погода была скверная.) Кажется, впрочем, не так огорчался одиночеством. Работал, писал довольно много писем. Утешал Полонских, очень о нем в Петербурге скорбевших. Подробно излагал Бертенсону (врачу, русскому), свое положение — Где боли, куда перемещаются, как желудок и пр. Радовался, что по ночам спит. И с легкой, горестной усмешкой отказался от нового лечения, ему предложенного: прикладывать к больным местам сырую глину. (В молоко все-таки верил, продолжал поглощать его неимоверно — по 10–12 стаканов в день.) И окончательно смирился: т. е. уверился в безнадежности.
Программой maximum стало: не очень страдать. А там — устрица так устрица.
Но и этого не было дано. В ноябре переехал он в Париж. К январю боли усилились — без морфия не мог спать. В январе (83-го года) ему сделали операцию — вырезали «из брюха… „прескверную сливу“ — врачи называли ее „невром“». Почтительно повторяет он непонятное слово, думая, что, наконец, операция и поможет. Он ошибся. Надо или не надо было его резать — дело врачей. Операция прошла успешно. Рана скоро зажила и осложнений не вызвала. Но с того января, с этой операции «старая» его болезнь стала расти с силою угрожающей. Передышка окончилась. Вновь началось наступление, с силами утроенными. Теперь не только плечо и лопатка — вся спина, грудь болела, все вообще болело, двигаться совершенно нельзя. И ни молоко, ни уколы, ни машинка не помогали. Действовал один морфий. Шарко и тут придумал утешение: воспаление нервных оболочек, потому так и больно.
Последние томы проходят чрез его руки — VI, IX… Еще в феврале, в письме Григоровичу, он умно, тонко разбирает «Гуттаперчевого мальчика». Такие-то вот фразы надо вовсе выкинуть, следовало бы изменить тяжелые обороты, много в рассказе излишней обстоятельности и т. п.
Но уже это последние письма, писанные собственной рукой. Позже он диктовал.
Весна, Буживаль. Каштаны распускаются; дрозды скачут в саду. Умирает старик Виардо. Тургенева в кресле выкатывают из chalet — в весеннем солнце издали может он поклониться праху странного своего «друга», при котором прожил сорок лет, с кем мирно беседовал, охотился, от кого выслушивал иногда бессмысленные замечания насчет писаний своих. Полина хоронила мужа без сантиментальностей. На следующий день давала уже урок. Что думал Тургенев, глядя на его гроб, удалявшийся вниз, по спуску к воротам на набережную?
В мае он смог еще написать Полонским: «Давно я не писал вам, любезные друзья мои — да и о чем было писать? Болезнь не только не ослабевает, она усиливается — страдания постоянные, невыносимые — несмотря на великолепнейшую погоду — надежды никакой — жажда смерти все растет — и мне остается просить вас, чтобы и вы со своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга».
Так умирал Тургенев. Всю жизнь стремился он к счастию, ловил любовь и не догнал. Счастия не нашел, смерть встречал в муках: точно бы подтверждался страшный взгляд его на жизнь. Но в действительности никак не подтверждался, ибо последней его судьбы, последней глубины бытия его мы не знаем. Мы только знаем, что это буживальское лето было ужасно и для Тургенева, и для Виардо, ухаживавшей за ним. Боли доводили его до криков, до мольбы прикончить. Так продолжалось до августа. Морфий действовал на его мозг — то казалось ему, что его отравили, то в Полине мерещилась «леди Макбет».
А в смертный час, когда никого уж почти не узнавал, той же Полине сказал («которая пододвинулась к нему ближе, он встрепенулся»):
— Вот царица из цариц!
Умер он 22 августа. Отошедши, весь преобразился. И не только не осталось на лице следов страданий, но кроме красоты, по-новому в нем выступившей, удивляло выражение того, чего при жизни не хватало: воли, силы — мягкой, даже ласковой, но силы.
Сохранилась фотография с него в гробу: действительно, прекрасен. Может быть, и никогда красив так не был.
Жуковский*
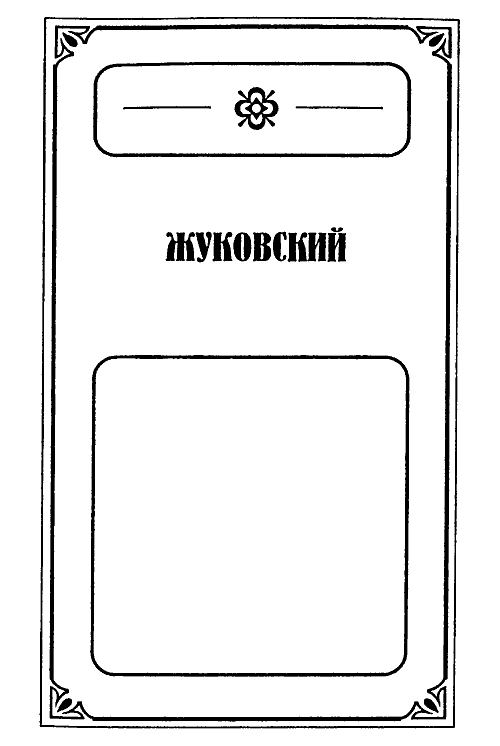
Мишенское и Тула