X-files. Секретные материалы 20 века. Досье. 2012 №1
Фронтовой быт офицерства резко контрастировал с жизнью простых солдат. Холеные, пахнущие духами, в корсетах и лакированных сапожках командиры, казалось, готовились не к переломной битве, а к променаду в Вене. При них в прекрасно оборудованных теплых блиндажах-конюшнях находились любимые лошади, которых кормили на убой, в то время как простые румынские солдаты вынуждены были ютиться в грязных окопах и заниматься поиском дров и пропитания для себя. Немцы ужаснулись и поспешили послать соответствующие рапорты в ставку. Гитлер влепил Антонеску нагоняй, что, однако, не спасло фашистскую группировку войск под Сталинградом. Прекрасно осведомленный об этом, Георгий Константинович Жуков направил удар именно на румынское расположение. Ни о каком взаимодействии немецких и союзных им армий речи не было. Только брезгливое непонимание и снобистское отторжение со стороны гитлеровцев, и ленивая покорность вассалов в армиях сателлитов. Сколько бы фюрер не орал в телефонную трубку на Фридриха Паулюса — «Стоять до последнего! Я не уйду с Волги!» — битва была позорно проиграна.
«Сталин уже вождь-диктатор в современном, фашистском смысле», — сказал в 1937 году Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма». Любопытное замечание.
Сегодня из виду упущен один очень важный аспект. Еще в начале XX века многие исследователи, основываясь на результатах войн начального периода развития капитализма и Первой мировой как апофеоза столкновения крупных держав за передел сфер влияния, пришли к однозначному выводу: начиная с наполеоновской и заканчивая англо-бурской кампанией, на протяжении всего девятнадцатого столетия, война резко поменяла свой характер. Во все времена война являлась не только крайней формой решения спорных вопросов, но и весомым аргументом внешней политики развитых государств. Главное заключалось в том, что война давно перестала быть только лишь чередой сражений, в которых решались судьбы отдельных стран, и превратилась в соперничество блоков государств. Если раньше в бой вступали народы за свои интересы, то теперь те же народы, собранные в кулак коалиций, бились за победу мировоззрений. Учтя опыт предшественников, германский Генеральный штаб при разработке Директивы № 21 «Барбаросса» акцентировал внимание военных исполнителей на важной детали — «война против России — не военно-политическое мероприятие, а война идеологий». На просторах Европы столкнулись два монстра: «немецкий фашизм» и «российский большевизм».
Сама терминология с течением времени претерпела определенную трансформацию. Фашизм устойчиво ассоциируется с кошмаром концлагерей, массовыми расстрелами мирного населения, вандализмом и фанатичной ненавистью к «неарийцам». Воспринять трезво утверждение, что Советский Союз являл собой фашистское государство, россиянам очень трудно. Для нас фашизм всегда внешний и наиболее опасный враг, который был сокрушен именно нашей страной — СССР. Гитлер же однозначно фигурирует в сознании многих как оголтелый фанатик, людоед и садист-параноик. Применить же термин «фюрер», например, к иракскому лидеру Саддаму Хусейну как-то язык не поворачивается — масштабы не те. Однако Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, Хусейн идентичны по сути.
Возникает параллель между «сталинским большевизмом» и «гитлеровским нацизмом». Не трудно прийти к выводу, что это явления одного порядка. Различия только в самой концепции, конкретных целях и задачах. Сталинский режим чисто психологически сложно воспринимать как фашистский. Но соотнеся его с типологиями, которые были разработаны Бердяевым, Ильиным или Умберго Эко для фашизма как феномена, большевизм, нацизм и иже с ними суть тоталитарные режимы. Не важно, в какие цвета их выкрасили — коричневый, черный или красный. Сталинизм же отличался от других тем, что являлся самым развитым, нежели остальные. Удельная масса большевизма значительно превосходила нацистскую. Исходя из этого, видим, что в середине XX века в соперничество вступили титаны тоталитаризма. В России концентрация власти в руках партийной верхушки была огромная, страна прекрасно поддавалась практически любым манипуляциям, пропаганда достигла совершенства. Известный болгарский исследователь Желю Желев («Фашизм», 1989) высказал важную мысль: «Фашистская модель, которую часто считают антиподом коммунистической, отличается от нее лишь тем, что была не достроена, не охватила экономическую базу». По природе своей перед нами два сапога одной пары. Правда, следует оговориться. Германский нацизм грешил своеобразным некрофильством и склонностью к суициду — полностью отсутствовало стремление к чему-то позитивному (война, смерть, уничтожение, эвтаназия…). Сталинизм, напротив, сумел завуалироваться позитивистскими выкладками и лозунгами. Достаточно вспомнить идеалы. У немцев — Зигфрид, Роланд, Тристан, которые в итоге погибали, а счастье обрели лишь в загробном, темном мире. Советские идеалы — три богатыря, Никита Кожемяка, Александр Невский — светлые и положительные. Германцы сразу определили себя как захватчики, разрушители и «господа мира», советские люди — как освободители и созидатели.
Гитлер, этот «революционер против революции», не имел абсолютной власти над Германией, которая досталась его советскому сопернику. Вывод напрашивается сам собой: в смертельной схватке за мировое господство победил не тот, кто оказался более вооруженным, а тот, чей режим и железный кулак являлся более действенным.
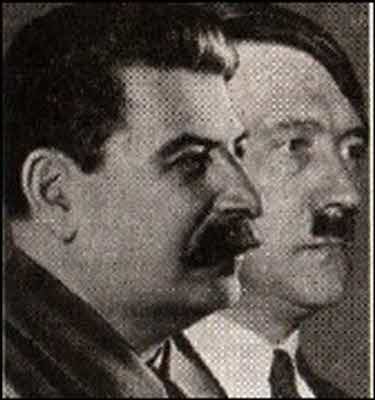
Парадоксально, но большевизм при неприкрытой антигуманности и преступности не только выстоял, но и приумножил свой авторитет и влияние в стране и мире.
Воодушевление и вера в неизбежность победы росли в народе год от года. Советская многонациональная государственность не распалась, а наоборот сплотилась, социализм упрочился как общественная система. С полной уверенностью можно говорить о том, что война стала проверкой на прочность государства и общности «нового типа». Это не панегирик сталинизму, а констатация факта.
Предпосылки победы — суть части единого комплекса мероприятий властных структур, народного патриотизма и специфичности России как таковой. Немцы теоретически знали о плохих дорогах, русской зиме, разгильдяйстве и расхлябанности людей, несовершенстве местной экономической базы. Видимо, не учел Гитлер со товарищи, что Европа и Россия — две большие разницы. Первые же недели агрессии показали, что: в России иные железнодорожные стандарты, проезжие дороги отвратительны, население не желает принимать власть оккупантов, партизанщина началась сразу и была для захватчиков непредсказуемой. В России нельзя ждать появления бензоколонки на каждом сотом километре трассы.
Немцы совершили еще одну серьезную ошибку. Установление новой власти началось сразу и жесткой рукой. Как можно было относиться к гитлеровцам, лидеры которых на весь мир заявили о том, что «на территориях Польши и России надо уничтожить от 120 до 150 миллионов человек», «поляков вообще надо уничтожить, а их территорию заселить немцами» и все в том же духе? При этом в сознании россиянина прочно укрепился стереотип: немец — не мой, чужой — враг, насильник, агрессор, убийца. Когда «враги сожгли родную хату», русский мужик инстинктивно взял в руки дреколье и стал мстить наглому лиходею за унижение, поругание святынь, смерть близких.
Германцам тяжело было понять, что русские не станут воевать по классике военного искусства. Для немца война являлась работой: жалованье, распорядок дня, перерыв на обед, полнокровное снабжение, обязательный " выходной день и отпуск. Для россиянина война превратилась в тяжкую необходимость и священный долг перед Отечеством. Победить такой народ вряд ли возможно.
КИНО
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» — СЛАДКОЕЖКА

30 лет назад, в 1981 году, весь советский народ припал к экранам телевизоров, когда начался показ третьего фильма по произведениям Артура Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона — «Собака Баскервилей». Правда, приступая (по многочисленным просьбам зрителей!) к работе, режиссер Игорь Масленников и не подозревал, что создает новый жанр отечественного кино — иронический хоррор.
О том, как задумывался народолюбимый сериал, режиссер Игорь Масленников рассказывает: «Юлий Дунский и Валерий Фрид, которые восхищались моим фильмом «Завтра, третьего апреля», приехали однажды в Ленинград, явились в Творческое объединение телевизионных фильмов и положили на стол главного редактора Аллы Борисовой сценарий. Никто сценарий не заказывал. Это была их личная инициатива — экранизировать два ранних произведения Артура Конан Дойля «Этюд в багровых тонах» и «Пестрая лента». Им, видите ли, захотелось поразвлечься на безыдейных просторах викторианской эпохи (после сложностей эпохи петровской — только что Митта закончил фильм по их сценарию «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»).
Я не являюсь большим поклонником детективной литерауры и, как филолог, не считаю Конан Дойля таким уж значительным писателем. В том, что я клюнул на него, большое значение сыграла обстановка в стране: хотелось улететь куда-то в заоблачные дали, заняться чем-то приятным, не связанным с тогдашней повседневностью.
В том, что мы взялись за «Собаку», виноват зритель, который не давал нам покоя: «Если уж взялись за Шерлока Холмса, то как вы можете пройти мимо такого шедевра, как «Собака Баскервилей»?» Происходило все это в эпоху, когда зрители еще писали письма. На ЦТ стояли целые мешки писем с требованием продолжения. Но надо признаться, на этот раз меня не пришлось уговаривать долго. Вступили в дело «мистические» числа. До этого мы сняли два фильма по две и три серии. Потом рассудили так: хорошо бы закончить цикл двухсерийной «Собакой», красивыми цифрами — три фильма, семь серий. Но, как вы знаете, это был еще не конец…».

«С самого начала я знал, — говорит Игорь Масленников, — что Холмса должен сыграть Василий Ливанов… Холмс — позер, он не говорит, а вещает. Все эти качества счастливым образом совпадали с особенностями характера Василия Ливанова… На вид Ливанов был абсолютным европейцем — ладный костюм, бритое до синевы лицо, волосы покрыты слоем бриолина. Осталось сбрить усы, с которыми он никогда не расставался, и будет вылитый Холмс… Но руководство Центрального телевидения, по заказу которого мы должны были снимать «Холмса», отвергло его кандидатуру: «Какой же это Холмс?! Знаем мы Ливанова — шумный, сложный, непредсказуемый…». Для очистки совести я познакомился с Александром Кайдановским, сделал фотопробы — вот уж кто полностью соответствовал литературному образу! Сух, высок, педантичен и бесстрастен. Но мне нужен был Холмс, не совпадающий с первоисточником. Ливанов — это Ливанов… Ливанов вместе со своей обаятельной женой, художницей-аниматором Леной, может быть хлебосольным хозяином и в Москве, на Тверской, и на Николиной горе, на даче. Но может, находясь в ином «расположении духа», позвонить, например, из ленинградской гостиницы «Европейская» в Вашингтон, в Белый дом, президенту Картеру с требованием лишить режиссера права на постановку фильмов о Шерлоке Холмсе».

«Доктора Ватсона искали долго…, - признает Игорь Масленников. — Фотопробу Виталия Соломина с наклеенными армейскими английскими усами я обнаружил в актерском отделе «Ленфильма». С этой фотографии на меня смотрел вылитый Конан Дойл в молодости… Но в объединении «Экран» вслед за Ливановым не утвердили и Соломина. «Какой это Ватсон?! У него же русская курносая физиономия!» — пожали плечами редакторши».