В возбуждении шмыгает он по открытым залам, как маленькая, сухая и злая птица, глаза блестят злословием и гордостью. Он вычистил свои фальшивые камни, — настоящие уже давно попали в руки английского еврея — осыпающие его орденский крест, тщательно напудрил волосы и стал упражняться перед зеркалом (у этих дикарей забудешь все манеры)! — в старинных реверансах и поклонах, принятых еще при дворе Людовика XV. Правда, спина уже сильно потрескивает, ведь не безнаказанно же в течение 70 лет таскалась старая телега на всех почтовых лошадях вдоль и поперек всей Европы! Да, знает бог, сколько соков выпили женщины. Но по крайней мере там, на чердаке, острота мозга еще не притупилась, еще он знает, как развлечь господ и показать себя. Спирально закругленным, слегка дрожащим почерком успевает он переписать поздравительные французские стихи для принцессы де Рэк на дымчатый лист бумаги, делает затем помпезную надпись в виде посвящения на своей новой комедии для сцены любителей: ведь и здесь, в Дуксе, он не разучился всему принятому и умеет еще, как подобает кавалерам, принять с должным вниманием общество, интересующееся литературой.
И, действительно, когда подъехали с грохотом кареты и он спустился, согнувшись на своих подагрических ногах, по высоким ступеням, прибывшие господа небрежно бросила слугам шапки, накидки и шубы, его же обняли, по обычаю дворян, представили его приглашенным кавалерам, как знаменитого кавалера де Сейнгальт, славили его литературные заслуги, а дамы наперерыв приглашали его быть их соседом за столом.
Еще не успели убрать посуду со стола и закурить трубки, а принц уже осведомляется, совсем как он предполагал, об успехах несравненных, захватывающих рассказов о жизни, и все в один голос — кавалеры и дамы — просят прочесть главу из этих бесспорно обреченных будущей славе мемуаров. Как отказать любезнейшему из всех графов, своему милостивому благодетелю в этом желании?
С готовностью семенит господин библиотекарь наверх в свою комнату и вытаскивает из 15 фолиантов тот, который предусмотрительно заложен шелковой лентой: главный и салонный отрывок, один из немногих, выдерживающих без риска присутствие дам, — побег из венецианской тюрьмы.
Как часто и кому только ни читал он это несравненное приключение! Курфюрсту баварскому, кельнскому, варшавскому двору и дворянским кругам Англии, но пусть все убедятся, что Казанова иначе умеет рассказывать, чем этот сухой пруссак, господин фон Тренк, о котором так прокричали по поводу его «тюрем».
Ведь Казанова только что ввел несколько новых версий, великолепные по неожиданностям, осложнения и в заключение восхитительную по выразительности цитату из божественного Данте. Бурные аплодисменты вознаграждают чтение, граф обнимает его и сует приэтом левой рукой незаметно стопку дукатов в его карман, которыми он сам, чорт это знает, может очень кстати воспользоваться, ибо если его целый мир забыл, то его кредиторы преследуют его до берегов отдаленнейшего Понте. И вот, несколько искренних крупных слез сбегает по его щекам, когда еще и принцесса милостиво поздравляет его и все пьют за скорое окончание великого произведения.
Но на другой день — увы! — раздается нетерпеливый топот лошадей, коляски ждут у дверей и высокие господа уезжают в Прагу. Хотя господин библиотекарь трижды делал тонкие намеки на то, что и у него там неотложные дела, его никто не берет с собой. Он должен остаться в гигантском, холодном, полном сквозняков каменном ящике Дукса, выданный с головой нахальной шайке чешской дворни, которая, не успела улечься пыль за колесами экипажа господина графа, опять уже мозолит уши своим глупым смехом.
Кругом — варвары, ни одного человека, который понимал бы по-французски и по-итальянски. с которым можно было бы поговорить об Ариосто и Жак-Жаке и нельзя же непрерывно писать письма к господину Опицу в Часлау и той паре милостивых дам, которые ему еще оказывают честь корреспонденцией. Как серый дым, густой и тоскливый опять затягивает скука жилые комнаты, а вчера еще забытая подагра начинает с удвоенной злобой терзать ноги.
С ворчанием снимает Казанова парадное платье, надевает на иззябшие кости толстый шерстяной турецкий халат, с ворчанием же добирается он до единственного убежища воспоминаний — своего письменного стола: очиненные перья ждут рядом со сложенными белыми листами фолиантов, в ожидании шелестит бумага. И со стоном садится он и пишет дрожащей рукой все дальше и дальше историю своей жизни. Благословенна скука, подгонявшая его!
За этим мертвенно бледным лбом, за этой крепкой кожей мумии живет свеже и цветуще, подобно белому мясу ореха за костяной скорлупой, гениальная память. В этом маленьком костяном помещении между лбом и затылком чисто и без повреждений сложено все, что эти блестящие глаза, эти широкие, дышащие ноздри, эти крепкие, жадные руки, алчно загребали к себе в тысячах приключений, а эти распухшие от подагры пальцы, которые втечение 13 часов в день гоняют по бумаге гусиное перо («13 часов, и они проходят для меня, как 13 минут»), полны еще воспоминаний.
На столе лежат в пестром беспорядке полуистлевшие письма его прежней возлюбленной, заметки, локоны, счета и памятки и, как над угасшим пламенем еще серебрится дым, так здесь плывет незримое облако нежнейших ароматов поблекших воспоминаний.
Каждое объятие, каждый поцелуй, каждое любовное слияние выступает в этой красочной фантасмогории. Нет, такое заклинание прошлого — не работа, а радость «lе plaisir de se souvenir ses plaisirs». Глаза подагрического старца блестят, губы дрожат от жара и волнений, вполголоса произносит он слова, ведет вновь созданные или на половину восстановленные в памяти диалоги, непроизвольно подражает давно отзвучавшим голосам и сам смеется своим шуткам. Он забывает о пище и питье, о бедности и нужде, унижениях и бессилии, о всех бедах и неприятностях, старости, когда он мечтательно омолаживается в зеркале своих воспоминаний; Генриетта, Бабетта, Тереза с улыбками подплывают к нему, как волшебные тени, и он наслаждается их загробным присутствием может быть полнее, чем это было при жизни.
И так он пишет и пишет, создает приключения пальцами и пером, как создавал их когда-то всем своим жарким телом, совершая восхождения и падения, декламирует, смеется и совершенно забывает себя.
За дверью стоят оболтусы из челяди и пересмеиваются: — С кем это там он смеется, этот итальянский дурак? — Насмешливо указывают они себе пальцем на лоб, давая понять, что он свихнулся, с шумом сбегают по лестнице вниз к бочкам с вином и оставляют старика в его одинокой комнате под крышей.
Никто в мире о нем больше не знает, ни ближние, ни дальние. Этот старый злобный ястреб живет на верху своей башни в Дуксе, как на вершине ледяной горы, забытый и неизвестный. И когда в конце июня 1793 года истерзанное сердце сломалось и несчастное, некогда тысячами женщин заключавшееся в пламенные объятия тело было зарыто в землю, в церковной книге не сохранилось даже правильно его имя.
«Казанеус — венецианец» — записывается неверно имя и — «восьмидесяти четырех лет» — неверная дата лет жизни, — настолько чуждым стал он современникам. Никто не заботится ни об его могиле, ни об его писаниях; забытым гниет тело, забытыми гниют письма, забытыми где то блуждают и томы его труда по воровским и равнодушным рукам. И от 1798 до 1822 г. — четверть столетия — никто не был более мертв, чем этот самый живой из всех живших.
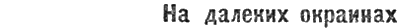
ПО ПРИМЕРУ ОТЦОВ
