Из воспоминаний
Большею частью он жил во Франции. Более 20 лет прожил он в Париже — в одном доме (rue St. Jacques, 328). В 1871 г. во время коммуны Лавров работал в санитарном отряде. В начале семидесятых годов он начал было большую работу — «Опыт истории мысли», но, кажется, вышел только один ее выпуск. В 1875 г., когда одно французское министерство стало усиленно заботиться об «очистке» Парижа от неблагонадежных элементов, Лавров вынужден был на время удалиться в Англию. Ученый, кабинетный деятель показался опасен тогдашнему реакционному французскому правительству.
Во второй половине семидесятых годов, под редакцией Лаврова и при его деятельном участии стали издаваться газета и журнал «Вперед», менее распространенный в большой публике, чем герценовский «Колокол», но значительнее его по содержанию. Теперь, может быть, еще не время говорить подробно о П. Л. Лаврове, о смысле и значении его научно-литературной деятельности, так же, как и о его журнале. Но если в наши дни явилась возможность публично вспоминать о Герцене, бывшем еще «под запретом» в эпоху либеральных лорис-меликовских «веяний», то можно надеяться, что скоро наступит такое время, когда воздастся по заслугам и памяти Лаврова, как одного из даровитейших русских людей. Хотя он и жил на чужбине, но постоянно вспоминал о России, и до последнего мгновения живо интересовался всеми проявлениями русской жизни. Лавров, подобно Герцену, «тосковал» по России, как сообщали мне близкие к нему люди. Он горячо любил свою бедную родину и умер с мыслью о ней[11], с желанием ей свободы и счастья.
Памятный год
(1870)
В этом году судьба столкнула меня с тремя замечательными личностями: с Феофаном Никандровичем Лермонтовым, с Иннокентием Васильевичем Федоровым (более известным под псевдонимом «Омулевского») и с Сергеем Николаевичем Кривенко.
Между этими тремя даровитыми людьми, очень не схожими наружностью, характером и образом жизни, было одно общее: они не мирились с существовавшим бюрократически-полицейским строем и по мере сил и возможности боролись за лучшее будущее для народа.
Ф. Лермонтов был человек с большими организаторскими способностями, с замечательной энергией, с сильной волей, самоотверженно преданный одной идее — освобождению народа, прямолинейный, иногда резкий в своих приговорах, смелый, решительный, для дела не жалевший себя — так же, как и других… Через него я познакомился со многими боевыми деятелями того времени. Ф. Лермонтов был арестован за устройство конспиративного кружка и за революционную пропаганду вообще, и умер в заточении, как и друг его, Куприянов, и многие, многие другие… Лермонтов и Куприянов были мои земляки- вологжане.
С Лермонтова и с других политических деятелей той эпохи списаны мною главные действующие лица моего романа «По градам и весям»…
В этом же «памятном году» я познакомился с Александрой Николаевной Богдановой, которая с тех пор и была моим верным, неизменным товарищем и другом, деля со мной и бедность, и горе, и те немногие радости, какие посылала на нашу долю судьба…
Как-то в декабре 1869 г. я зашел в редакцию «Дела», которая, помню, помещалась тогда в Троицком переулке, в д. Гессе. В редакции на ту пору собрались несколько сотрудников. Кажется, был приемный день — суббота.
В числе сотрудников оказался один незнакомый мне молодой человек, лет 30, очень симпатичной наружности, с развязными (но не нахальными) манерами, разговорчивый, живой, веселый… Я в предчувствия не верю, но тут, признаюсь, единственный раз в жизни со мной произошло что-то странное… При взгляде на этого незнакомца у меня мелькнула мысль или, вернее сказать, мне почувствовалось, что знакомство с этим человеком будет играть большую роль в моей жизни, будет иметь для меня какое-то особенное значение и окажет влияние на мое будущее… Это предчувствие мелькнуло неясно, смутно, пронеслось в моем сознании мимолетной тенью; я не решился тогда ни с кем говорить об этом предчувствии, но впоследствии я не раз о нем вспоминал.
Я подошел к Благосветлову, сидевшему за своим редакторским столом над какой-то корректурой и, наклонившись, вполголоса спросил его, указывая на незнакомца, разговаривавшего в те минуты с Шеллером: «Кто это?»
— Это?.. Омулевский!.. — ответил Благосветлов и тут же познакомил нас.
На этот раз мы разговаривали недолго, все больше как-то присматривались друг к другу, как обыкновенно бывает при первом знакомстве. Омулевский мне очень понравился, несмотря на тревожное впечатление, произведенное им на меня… Уходя из редакции, повторяю, я чувствовал, что отныне с этим любезным, веселым человеком что-то новое, значительное входит в мою жизнь…
После того еще раз или два я встречал Омулевского в редакции.
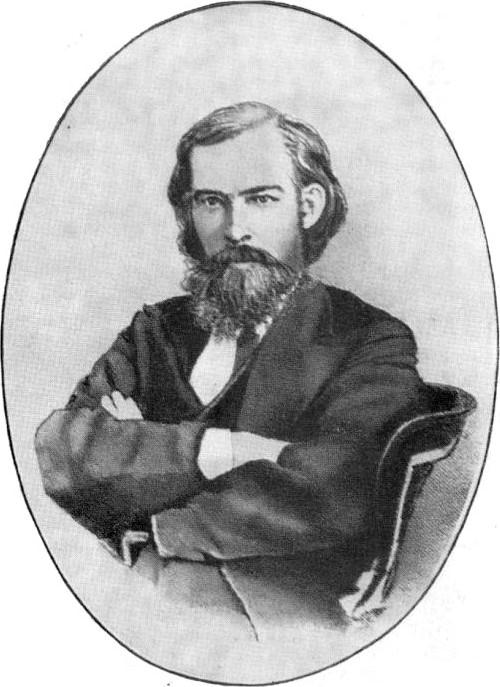
Наступили святки.
На второй день праздника вечером я в первый раз отправился к Омулевскому. Мы жили недалеко друг от друга: я — на Б. Московской, а он — на Николаевской ул., близ Ивановской, в д. Кудрявцевой, — и этот дом «с садиком» остался для меня навсегда памятным. Омулевский нанимал комнату в знакомом семействе сибиряков — у Е. И. Тр-вой. Две дочери Тр-вой, обе очень красивые девушки, в то время еще учились в гимназии; старшей из них было лет 18, младшая — года на два ее моложе.
Когда я пришел, ни Омулевского, ни барышень не было дома. Меня приняла Е. И. Тр-ва, милая, приветливая дама уже пожилых лет. Помню: в этот первый мой приход к Тр-вым меня поразила маленькая обезьянка, сидевшая в зале на приступочке печи. Это бедное животное, по-видимому, зябло и старалось согреться.
Вскоре явился Омулевский, и я провел очень приятно вечер в семейной обстановке — в тихой, дружеской беседе за чайным столом. Знакомых семейных домов в Петербурге у меня не было вовсе, и теперь мне было так приятно, так я был рад семейной обстановке, которой я так долго был лишен… И немудрено, что я в первый же визит к Омулевскому долго засиделся у него.