Наталья Головина — участник VII совещания молодых писателей. В ее первой книге исследуются разные пласты жизни, но преимущественное внимание автор уделяет современной городской молодежи. Героев роднит внутренняя неуспокоенность, они идут нелегким путем от познания мира к ответственности за него.

Помню тебя
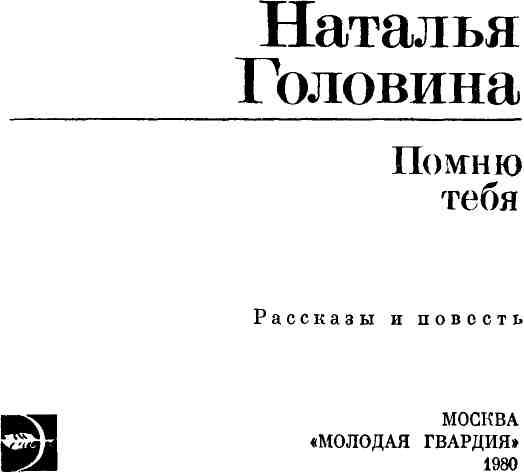
ОЖИДАНИЕ ВЫБОРА
Нередко о первой книге молодого писателя говорят: это поиски себя, своего стиля, материала, жанра, идеи.
О первой книге Натальи Головиной это тоже можно сказать: да, поиски, желание испытать себя в разном. В картинах современного служебного и домашнего быта, например. Или, скажем, в анализе «загадочной» мужской души. Все так, все верно, но в поисках уже намечается постоянство, а оно-то в таких случаях бывает интереснее и дороже поисков.
Разумеется, можно повстречать — к книге Натальи Головиной это не относится — пугающее постоянство: какой-нибудь безвкусицы, упорствующей вздорной идеи, низких чувств. Но без постоянства, без верности своей вере, идеалу, нравственной идее, своему углу зрения на мир возможна ли творческая, художническая индивидуальность?
Художническая индивидуальность Натальи Головиной выяснилась еще не вполне: заметны влияния, неустойчив стиль, как свой, отдельный способ называния вещей. Но свое, свой подход и угол зрения уже чувствуются и дают книге необходимое единство.
Острое, чуткое ощущение психологических состояний, их смен, их «предыстории» и возможностей позволили автору найти свой оттенок в изображении современного городского человека, его частной жизни.
Разные живут в этих рассказах и повестях люди, благополучные и страдающие, преуспевающие и не находящие себе места, словно заблудившиеся, но все они принадлежат больше к середине, чем к каким-либо крайностям. И занимает автора более всего не определение их достоинств и недостатков, а то состояние, в котором эти люди оказываются или пребывают. Это такая пора их жизни, когда они плохо понимают сами себя, а некоторые из них не знают, что делать с собою дальше. То, что с ними происходит, можно было бы назвать состоянием нравственной неопределенности. В этом состоянии есть нечто притягивающее автора, привлекающее, таящее в себе то ли загадку, серьезную задачу, то ли будничную тривиальность, притязающую быть житейской нормой. То есть тем, к чему вроде бы нужно привыкать, не удивляться, но привыкнуть невозможно.
Сергей Емцов из рассказа «Яблони» думает, что в человеке, возможно, «смалу заложено сознание светлого, как нормы, как единственно должного». И потому «ранняя память» так «удерживает исключения…». И что лишь потом память взрослеет «до понимания условий и обстоятельств и устает до терпеливой забывчивости на главное и цепкости к мелочам».
Ничего страшного, сверхнормального не происходит, все почти хорошо, и Сергей Емцов, как, впрочем, и Аркадий Дмитриевич («Ты волна моя, волна»), и другие герои Головиной могли бы не сильно переживать, принимать все подряд, что преподносит им жизнь, но что-то мешает им, словно тяготит, сбивает с толку… Это оживает память о «сознании светлого». Или это называется совестью, ее пробуждением? И потому душа человека ищет очищения, хочет ясности, правды, чистоты?
Вроде бы так справедлива мысль, к которой приходит автор в рассказе «Давнее»: «Жизнь не любит всего непомерного, всего без изгиба, без послабления прямого…» Наталья Головина ценит эти изгибы живого, любит их наблюдать, чувствует их непредсказуемость, и потому так интересна ей обыденность маленького районного села или московской суетящейся конторы. Интересны люди, их характеры, разные житейские фокусы, превратности быта. То есть своевольные изгибы жизни. Таких «изгибов» очень много в повести об Инне Кузьминичне. Они в этой книге повсюду, и порою кажется даже, что изгибы эти не от самих людей, а оттого, что жизнь их так ведет, так с ними обращается. Ну а всякая настойчивая моралистика, нравственная последовательность — это все от прямизны, от непомерных требований и несбыточных желаний, от всего, что чересчур нежизненно, не терпит послабления. Именно так приучается воспринимать жизнь Инна Кузьминична; она живет себе и живет, словно волны несли ее и несут и некогда спрашивать себя, того ли хотела. Но постепенно в Инне Кузьминичне, как и в других героях Головиной, нарастает неудовлетворенность собой, какая-то душевная смута. Жизнь их утрачивает или вот-вот обретет — через утрату — целостный смысл, сознание своей подчиненности чему-то высокому, может быть, непомерному, но необходимому…
Ничего особенного, никаких драматических событий: один герой терзается, что редко навещал мать, не понимал ее, не берег; другой волнуется из-за каких-то попутчиц, с которыми был мелок и недобр; третий вдруг чувствует, что они с женой чужие люди; наконец, четвертая, Инна Кузьминична, спохватывается, что лучший вариант жизни пропущен, не понят… Мы оставляем всех этих людей в состоянии, близком к переменам и решениям. Автор словно ожидает от своих героев выбора и определенности; они подведены к такой точке внутреннего развития, что какое-то их обновление кажется неизбежным.
Живой, бесценный изгиб должен же где-нибудь соединяться с другим изгибом и замыкаться, образовывать некий контур, иначе царить бесформенности и неосмысленности и не в чем будет удерживаться светлому человеческому началу.
Можно надеяться, что все лучшее, талантливое, что есть в этой книге, будет развито и преумножено ее автором.
Рассказы
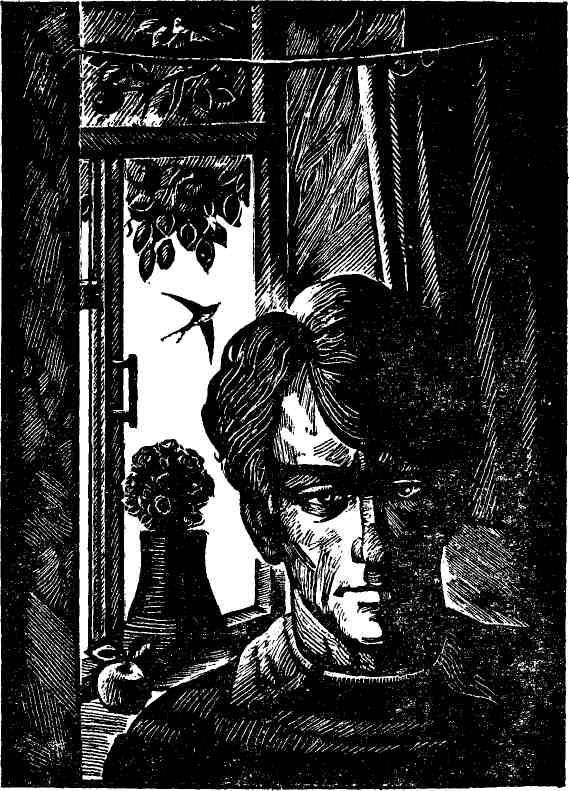
ЯБЛОНИ
Здесь когда-то яблони стояли тоненькие, почти ровесники Емцову, с пупырчатыми красноватыми почками голой ранней весной и с тесными белыми цветами на прутиках-ветвях в мае.
А одну, много старше, узловатую и раскидистую, с мощным стволом дикую яблоню, что росла почти из фундамента дома, из-под бревенчатого прируба общих сеней, соседка Полина, из флигеля, поливала тайком мыльной водой после стирки, чтобы та не сковырнула когда-нибудь ветхую кладку фундамента, да и проку от этой кислятины никакого… Уследить за Полиной было невозможно, и не по силам было стареющей матери каждый раз ругаться с нею из-за дерева, и дикая яблоня постепенно засыхала на глазах у Емцова-школьника, а потом еще заметнее — от приезда к приезду Емцова-студента.
Вспоминалось об этом сейчас с досадой, как о деле, которое, по всей совести, не то чтобы очень нужное и важное, но было именно твое, а ты как-то упустил, не заметил, и никто, кажется, не заметил в то время, что оно — твое, и вот теперь оно, не сделанное, перегоревшее в своей неявной тогда нужности и важности, напоминает вдруг тебе, что ведь, наверное, не только же это не успел. И хуже того, не заметил, не понял.