В детстве, я помню, в день Навруз-Байрама, это Новый год по-нашему, бывало, дети спорили между собой, кому пойти к Галине Ивановне с поздравлениями. Я в этом споре не участвовал потому, что знал — я непременно постучу к ней и поздравлю с Новым годом, с весной. А в этот день, обычно, все горянки готовят детям подарки в виде ватрушек с творогом и медом, с халвой, обязательно грецкие орехи. А к вечеру дети кучками собираются на плоские крыши, чтоб разыграть орехи. Игра состоит в том, что складываются кучки из орехов — три внизу и один наверху, затем с определенного расстояния кидают орехи-битки. У некоторых орехи-битки бывали даже заполненные свинцом, тяжелые… Так вот, кто попадал биткой и разрушал кучку, тому и принадлежали сбитые орехи.
А к Галине Ивановне дети ходили потому, что знали, — она к этому дню запасалась множеством детских книг, и каждому, кто стучал к ней с поздравлениями, она давала детскую богато иллюстрированную книгу. И многие затем переняли у Галины Ивановны этот обычай — дарить книжки.
Что-то стало знобить, и я попросил жену, если есть еще одно одеяло, укрыть меня. Но одеяла не нашлось, она укрыла меня своей шалью. «Я не замерзну, нет-нет, я сейчас лягу с детьми и засну крепко-крепко, и ты спи. Если понадоблюсь, друг мой, ты буди меня, не жалей. Потом можешь жалеть, а сейчас, когда тебе трудно, не жалей. Спи, постарайся заснуть». — И она наклонилась ко мне, коснулась губами моего лба и пошла к детям.
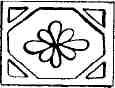
И У ТРЕВОГИ ЕСТЬ СВОЕ ЛИЦО
Утром был жар, я чувствовал, что лицо мое опухло. Но свет солнца, что проникал через окно, и чистое небо облегчили боль. Когда оглянулся, то увидел глаза детей, какие-то напряженные и печальные, полные сочувствия и любви. Так тихо никогда они не сидели, прижавшись друг к другу, сиротливо положив руки на колени. Заметив, что я открыл глаза, они закричали:
— Папа, проснулся, папочка!
— Доброе утро, родненький, — прижалась ко мне младшая дочурка.
— Здравствуй, папа.
— Папа, тебе очень больно?
— Ты скажи, папа, кто тебе сделал больно — я убью их. Убью, убью! — вскрикнул старший сын.
— Не надо, родные мои. Что вы?.. Знаете русскую пословицу: «За одного битого двух небитых дают», так что теперь я стою двух, — улыбнулся я им, но улыбаться мне было трудно, вся кожа на моем лице была стянута, как шкура на барабане, гримаса исказила мое лицо.
— Ну-ка не тревожьте папу! Идите во двор! — прикрикнула на детей мать. К ней, слава богу, уже вернулся бодрый голос, и это как-то приятно порадовало меня в моем незавидном положении.
— Ну что ты плачешь, доченька? — спрашиваю я у старшей дочери Фариды, которая всхлипывала и кулачками утирала слезы. — Вон какое солнце сегодня, идите гулять. Вы видите, — я живой. Мне нельзя умирать, никак нельзя, вот женим мы нашего Хасанчика…
— Когда, папа? — спрашивает малыш, выкатив свои большие чистые глаза. — Завтра, да?
— Да, да, сыночек, как только я встану.
Не могу шевельнуться, во всем теле ощущаю я боль, будто молотили меня на току. Теперь мне становится более ясным смысл слов. «Я из тебя отбивную сделаю!». Голова тяжелая, будто свинцовая, гудит вся.
И вот в палату входит всегда бодрый и живой наш врач Михайла и приветствует всех с добрым утром. Человек он, скажу, почтенные, в высшей степени порядочный, воспитанный, дарит людям тепло и ласку. Он кивнул головой в мою сторону, глаза его голубые светились в улыбке.
— Дядя Михайла, дядя Михайла, папе нашему уже лучше, — окружили его дети.
— А я что вам говорил?
— Говорил, что папа выздоровеет.