Он зашел в первый трактир, какой попался ему на пути, спросил себе чаю на гривенничек, порцию какого-то «биштеку», да уж заодно решил и выпить рюмочку сорокалиственной, ради такого чрезвычайного случаю. Пороскошествовав вволю, он наконец попросил буфетчика разменять ему мелкие деньги на крупные. Буфетчик удовлетворил его просьбе, дав ему новенький билет. Ананий Демьянович, в первый раз увидев в своих руках такой страшно крупный билет, был так очарован созерцанием его, что даже пожалел расставаться с ним. А когда приблизился он к зданию ломбарда, когда взглянул на массивное его здание с железными решетками в окнах и подвалах, сердце его замерло от тоски, как будто предчувствуя беду какую-нибудь. Снова сомнение одолело его. «А ну, — подумал он, — как там они деньги возьмут, а после, в черный день, и не отдадут? Конечно, дворник ручается, но все-таки лучше бы им храниться по-прежнему, в надежном ящичке, в этом крупном, почти неразменном виде?» И он, повинуясь внутреннему голосу, бросил на ломбард взгляд недоверчивости, потом поспешно отправился в свой угол в Большой Подъяческой улице и спрятал свой новенький, до крайности значительный билет в потайной ящик на черный день.
Потом он снова предался строжайшей бережливости и самоусовершенствованию посредством воздержания от вечерних прогулок по Большой Подъяческой улице.
Ему, однако ж, много труда стоила борьба с искушениями разных петербургских радостей и с природным влечением к роскоши не по своему состоянию. Он, может быть, и пал бы в этой борьбе, если б долгая сосредоточенность в самом себе, продолжительное собеседничество с своим самоваром не приучали его постепенно к полезному домоседству; а тут уже стали в нем развиваться гастрономический вкус к чаю и некоторая родственная привязанность к самовару. Благодаря этим счастливым наклонностям, он, потерпев годок-другой от бурных страстей, увлекавших его в трактиры и на острова, даже в театр, наконец вполне установился в образе уединенного жительства, в отчуждении от всего мира, существующего за пределами его угла в квартире Клеопатры Артемьевны. Даже трудно ему стало расставаться с этим уголком, когда какая-нибудь надобность вызывала его туда, вниз, в шумный город, наполненный искушениями. Эта привязанность значительно изменила его прежний служебный характер, отняла у него жесткое практическое свойство и сообщила ему способность к некоторому умственному парению, особливо на ту пору, когда Ананий Демьянович вел беседу с своим самоваром, отводил свою душу чаем и задумывался, прислушиваясь к долгой песне, которую напевал его самовар.
Собеседничество его с самоваром не есть риторическая фигура, употребленная произвольно, для усугубления красоты и приятности слога этой повести: оно происходило действительно, потому что Ананий Демьянович, увлекшись очарованием песни своего самовара, часто обращался к нему с выражением своего восторга: «Ну, барон, ты опять понес свое… Ах, если б разгадать, о чем ты говоришь, на что ты яришься? Ведь не может же быть, чтоб это все просто потому, что разогрели и разгорячили тебя. Ты не глуп, как иной наш брат, живой человек, ты свое дело знаешь, да и людям пользу приносишь. И много, чай, насмотрелся ты на своем веку, не то что я, например, весь свой век, бедный, провел в трущобе!»
Разумеется, что Ананий Демьянович предавался своим излияниям перед любимцем самоваром исключительно наедине с ним, когда сожители его, господин Гонорович и мещанин Калачов, находились в отсутствии. При них он стеснялся открывать свою душу, свои заветные помышления. Они, практические деятели уличной петербургской жизни, не поняли бы глубокого сочувствия между им и его самоваром. А сочувствие это все росло и усиливалось, особливо с того времени, когда у Клеопатры Артемьевны поселилась Наталья Ивановна, и, наконец, дошло до полноты и совершенной исключительности, когда новый жилец и купец Корчагин овладел драгоценною внимательностью Натальи Ивановны. Тут уж он вполне, с дружескою искренностью доверился своему единственному во всем свете сочувствователю, и сочувствователь отвечал ему жалобною песнею, иногда переходившею в бешеные порывы самого риторически клокочущего негодования.
Много утешений пролил это самовар в душу и желудок Анания Демьяновича и, наконец, совершенно утешил его и посоветовал ему принять упомянутую меру, то есть открыть кассу, определенную на черный день, и повести себя в отношении к Наталье Ивановне точно так же, как повел бессовестный Корчагин: купить букетец хорошенький в вазочке, не очень дорогой, даже совершенно скромный, чтоб только напомнить Наталье Ивановне о своем беспредельном уважении и лю… ну, и преданности, а вместе с тем и пред злонамеренным Корчагиным выказать себя с хорошей стороны, убедить его, что вовсе не презренный и пропащий человек ведет скромную, уединенную жизнь и не по совершенной нищете, а потому более, что предпочитает тихое самосозерцание на кожаном диване, сокрытом от всего света подержанными ширмами, открытому и мотоватому фанфаронству капиталиста.
С этими-то чувствованиями он вскрыл, наконец, свою тайную кассу, признавая, что наступил для него давно ожиданный и благоразумно предупрежденный черный день.
Схватив первого лихача, какой попался ему в Большой Подъяческой улице, он поплелся чрез Садовую и Сенную на Невский проспект; по дороге насмотрелся на разные диковинки, кстати купил четвертушку чайку и уже благополучно приближался к магазину мадам Кюзиньер, когда совесть вдруг заговорила в нем и экономические расчеты кинулись ему в голову и смутили его своими практическими выводами; но было уже поздно возвращаться на путь истины и самоусовершенствования, потому что он очнулся тогда только, когда стоял в магазине перед самою мадам Кюзиньер, пресловутою цветочницею, в толпе благородных людей и всякой знати.
— Вазочку мне, мадам, вот эту; что стоит эта вазочка?
— Двадцать пять рублей серебром, — отвечала француженка.
— Ну так вы мне ее, знаете, тово… аккуратно, во что-нибудь…
Ананий Демьянович, торопливо и конфузясь, сам не зная чего, опустил руку в карман и, к сожалению, не нашел своих бумажек, а нашел только записочку прихода и расхода…
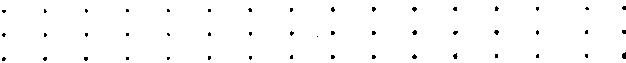
Нельзя было узнать Анания Демьяновича, когда он возвратился в свой угол. На нем лица не было. Он дрожал как в лихорадке, и слезы пробивались в глазах его. Жаль было смотреть на Анания Демьяновича!
Долго лежал он на своем кожаном диване, подавленный полным сознанием случившегося с ним несчастия. Тоска раздирала его сердце… Он наконец обеспамятел и в этом состоянии провел остаток дня, не слыша сердечных сетований всех своих сочувствователей, которые уже знали всю его историю и передавали ее один другому в более видных размерах. Таким образом, Корчагин, который позже всех узнал о ней от Канарейкина, слышал, что Ананий Демьянович нашел когда-то на улице десять тысяч рублей серебром и десять лет прятался с ними, а теперь вздумал разменять их на ходячую монету и пожуировать жизнью, но оказалось, что десять тысяч — пуф, а не деньги, оказалось, что они — фальшивые бумажки.
Поздно вечером приподнялся он на своем диване, зажег свечи и велел Степаниде подавать скорее самовар. Калачов и Гонорович, уважая его горесть, или не зная, что сказать ему в утешение, красноречиво молчали.
Ананий Демьянович, снова припомнив свое неприятное приключение, опустил голову на руки и весь сосредоточился в болезненное сознание бессилия человеческого разума против всяких случающихся с человеками ни с того ни с сего бед и напастей.
Тяжелые мысли, думы такие нестройные, мрачные, колебали его.
«Эх, жизнь моя! — думал он, — жизнь горькая, доля моя безталанная! И вот пришел же он, проклятый, как ни берегся, а пришел-таки
Вдруг, слышит он, что-то шумит, и шепчет ему… он прислушивается… шепот явственнее, шум сильнее, определительнее, знакомее… «Так и есть, это он, ясный, докрасна вытертый кирпичом, старинный и всегда веселый самовар; это он сам, толстопузый барон, только не из тех, которые ходят в венгерках, с хлыстом в руках, а так добрый барон! Ах, самовар, мой друг неизменный… да это ты шумишь; о чем же ты заводишь свою песню?.. Грустно мне думать под твой непонятный говор! Ты все про то же… все одну и ту же поешь старую песню… и с которых пор ты поешь ее? Скажи мне, приятель? Чей слух не радовал ты своею песнею, чьего взора ты не нежил с тех пор, как мастер-туляк выпустил тебя на белый свет, и пошел ты по белу свету радовать сердце русского человека! Где-то не побывал ты? чего не насмотрелся? Сначала попал ты, может быть, в барский буфет, и появлялся ты в довольной семье, и когда ты появлялся, барин переставал скучать, барыня браниться, ребятишки умолкали, и все садились вокруг тебя и прислушивались к твоей песне… а ты был в ту пору моложе, чем теперь, и пел — не соловьем — куда!.. ты пел своим настоящим голосом… и барин вспоминал время, когда он тоже был мальчишкой и таким глупым мальчишкой, что долго старался разобрать по словам твою песню, а теперь, дескать, он подвинулся в умственных понятиях далеко, распознал, что ты поешь без слов, а все же ему, умному человеку, как-то легко припоминается пора, когда он был глупым ребенком; а барыня тоже вспоминает, о ком она мечтала под твою песню… вовсе не об этом ходячем докладе: она думала о ручейках, о зеленых кусточках, о травке-муравке, о хижине в лесу, а ребятишки тоже поглядывают на тебя любопытными глазами.
А там… выбросили тебя, мой барон: разбогатевший барин завел самовар серебряный, так тебя и в отставку: тебе уж было неприлично являться на барском столе, так ты себе занял местечко на кухне… Да ты, барон, такой человек, что нигде не будешь в пренебрежении: ты и на кухне затянул старую песню, и песня твоя была по сердцу всему лакейству, и с тобою обращались, как с благодетелем и другом, вокруг тебя садились и жужжали свои песни длинный Тарас, барский камердинер, сухощавая Палашка, барышнина горничная, и старая Аксинья, стряпуха и нищая колдунья, и Макар, знающий все на свете, даже колесо починить, да только не имеющий ни в чем удачи. Вот какую компанию собрал ты!.. Ну, нельзя сказать, что это во всех отношениях благородное собрание, однако ж ты в нем не уронил себя — ты, дружище… ты, как тот герой — перестав быть первым в Риме, стал первый в деревне… значит, ты все-таки был господином, ты веселил старые души, ни к чему уже не годные, ты вызывал в них кое-что: ведь у каждой души, даже у той, которая числится ни к чему уже не годною, есть много, очень много своего заветного добра…