Сюда то, в деревню Замостье, к одному из этих стариков, дедушке Егору, жизнь забросила меня чуть ли не на целый год прямо со школьной скамьи, со свежим дипломом инженера-мелиоратора в кармане. Мне выпала миссия ликвидировать этот остров, соединив его постоянной дорогой с материком со стороны Заболотья. Проект дороги, предусматривающий постройку восьми мостов над протоками и обычного типа болотную гать, был составлен еще в 1918 году. Стоимость исчислялась в керенках, в никакой мере не переводимых на червонные рубли; тем не менее три тысячи рублей было отпущено казенных, а остальные предполагалось взять в виде труднповинности с заинтересованного населения, от которого на то были получены протоколы.
Начальство учло, что одному мне в этом медвежьем углу не выжить, да и в опытности моей сомневалось. Поэтому ко мне прикомандировали уже пожилого, съевшего на этом деле нескольких собак техника.
Организационную работу мы с Иваном Савельичем — так звали моего техника — провели летом, наездами, а на постоянное жилье со всеми инструментами прикатили в начале зимы, по первой пороше.
Летом, да в наездах, было великолепно. Природа и ее девственность восхищали. Мы отдыхали от Москвы, толпы, трамваев, сутолоки. Но зимой, на постоянном житье, было совсем не то.
День в работе проходил, правда, незаметно. Весело тяпали плотничьи топоры, обнажая белое душистое тело свежесрубленных сосен, придавая им вид то брусьев с фасками, то прямых ровных свай точь-в-точь таких, какими я привык их видеть в разных учебниках строительного искусства.
А рядом с канавой, виновницей нашего приезда, мужицкой трудповинностью вырубалась широченная прямая просека, через которую Замостье смогло, наконец, через тьму и топи, его окружающие, увидеть огонек близ находящейся маленькой фабрики. Намечая с нивеллиром и рулеткой мосты так, чтобы все они были в одну линию и на одной высоте, слушая перекликающиеся голоса рабочих, гулкий стук топора, визг пилы, треск валившегося ольшанника и улюлюканье зайца или лисы, с недоумением остановившихся и глядевших на невиданное в этом углу зрелище, мы с Иваном Савельичем радовались непередаваемой радостью и за себя, отнимавших Этот остров от болота, и за крестьян, приобщавшихся к тому, чего уже успели понахватать их более счастливые соседи.
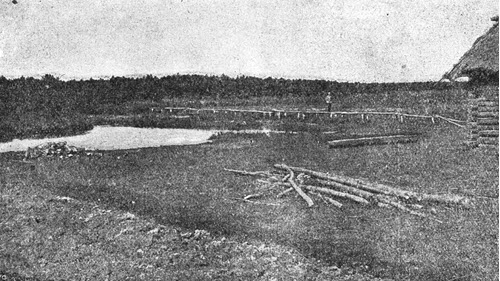
Одним словом, днем было более чем сносно. Зато вечером даже двое мы не находили себе места. Вся деревня укладывалась рано; в 7–8 часов уже везде было темно. Идешь по улице, и в каждой избе через зимние рамы слышишь храп. Самый разнообразный, самый разнохарактерный, хоть труд об этом пиши, как Тургенев о соловьях; где с присвистом, где с придыханием, где со «скрежетом зубовным». И всюду сверчки и скрип люльки, подвешенной на длинном, качающемся у потолка шесте, и плач младенцев. То же и дома. От всей этой симфонии не знаешь куда деваться, что делать. Читать не тянуло, да и нечего было, — привезенные книги проглотили в первые же вечера, из газет приходила одна уездная раз в неделю, да и ту приходилась брать из Заболотья; когда-то туда кто соберется.
Вставали рано. Умывались из глиняного носатого горшка, висевшего над кадкой, из которой воняло детской мочей. Тут же, у кадки, в огороженном углу, зимовала овца с двумя ягнятами. Когда мы умывались, она с любопытством, склонив голову на бок, глядела на наши руки, на мыло, старалась лизнуть его, и тоже воняла. Посмотрим на нее с Иваном Савельичем, переглянемся, плюнем и крепко выругаемся.
Хозяева услышат, бегут скорей с водой, думают — всю вылили.
Дни с дождями, грязью, с мокрыми ногами, не прошли для нас даром. По очереди, сначала Иван Савельич, а затем я, по нескольку дней пролежали в постели с жаром, бредом и метаньем. Как будто что-то было серьезное, а между тем оправились мы довольно быстро. Спас нас хинин, несколько подмокший, пролежавший у кого-то с незапамятных времен. После этого зима «вошла в свои права», и жизнь наша потекла без всяких осложнений.
Работа подвигалась успешно. Мосты рождались один за другим, все в одну линию, все белые, стройные, возбуждающие восхищение у крестьян и гордость у нас с Иваном Савельичем и плотников. Все шире и шире становилась просека, и все более и более выростали кучи хвороста около намеченной оси дороги.
И мы сами, вероятно, в силу человеческой приспособляемости, так освоились с своим положением, что стали считать его вполне нормальным, как будто бы именно так, а никак иначе и должно быть. Москва, семья, служба, родные улицы, театры казались далекими, как Индия или Китай, в которых никогда мы не бывали, но которые довольно хорошо знали по литературе. Мы перестали бриться, обросли и, не видя со дня отъезда бани, пропахли потом; лезть же «париться» в русскую печь, как это делали крестьяне, мы не решались. Как-то в одной из деревень я попробовал это, но у меня ничего не вышло; дали мне одну шайку воды и говорят — мойтесь на здоровье, — а я в Москве ни много ни мало, все шаек десять на себя вылью, да еще под душем минут пять постою. А тут тебе на — удовлетворись одной шайкой.
Может быть, наш малогигиеничный обиход, отнявший у нас внешнюю разницу с крестьянами, может быть все изменяющее время, а может быть та же самая приспособляемость, что переродила нас, привели к тому, что крестьяне стали считать нас своими.
Каждый вечер то тот, то другой, а чаще целой компанией, заходили они к нам, как они выражались, «побеседовать». Жаловались на житье-бытье свое, на скудную землю, на раздоры с соседями, рассказывали про охоту, про повадки рыбы, про то, как вчера ночью по дворам ходила лисица, намереваясь полакомиться курятиной. Не хотели слушать ни про клевер, ни про многополье, считая, что их почва ни при каких обстоятельствах, — даже при мелиорации не может дать хороших результатов, но зато с упоением, с разинутыми ртами, с дымкой задумчивости в глазах, слушали наши рассказы про теперешнюю Москву, про заграницу и чудеса техники.
Кое к кому захаживали и мы с Иваном Савельичем. К кому с делом — насчет рыбы, молока, творога, мяса, рабочих, — а то и так, навестить. От этих посещений у меня осталась память — небольшое стихотворение, вылившееся в конце обхода:
Так прошла зима. С началом весны, когда снег потемнел и как-то приземился, а реки приготовились к разливу, грозя отрезать нас на несколько недель от материка и обречь на бездействие, мы с Иваном Савельичем решили на месяц прервать нашу работу и закатиться в Москву.
Как раз накануне нашего отъезда прилетела дичь. Что это был за праздник! Прилету радовались все, даже старики и женщины, даже малые дети. Никогда не забуду этого дня.
Мы с Иваном Савельичем завтракали. Как вдруг к нам вбегает внук деда Егора — мальчишка лет 5–6, обычно молчаливый и нас всегда дичившийся, вбегает с озаренным какой-то лучезарной радостью лицом, на котором мы на этот раз не заметили постоянной грязи и зеленого сгустка жидкости под носом.
— Дичь прилетела, дичь прилетела, во! — кричал он неистово.
О том, что дичь должна прилететь со дня на день, мы слышали, и поэтому сразу поняли смысл возгласа мальчика, но перемене, в нем совершившейся, невозможно было не удивиться.