Ольга Рэйн
Безмолвные крики
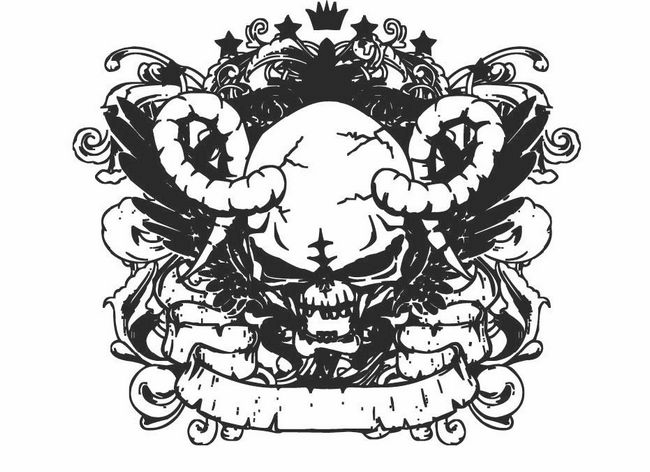
Синяя соль
Некоторые воспоминания — как незваные гости, они стучатся в дверь, и если ты, не посмотрев в дверной глазок, открываешь — вваливаются в прихожую, громко гомоня, проходят по еще только что тихим коридорам твоей души, по-хозяйски рассаживаются в комнатах и не уйдут, пока не выйдет их время, а какое оно — известно не тебе самому, а только им, только им.
Когда я думаю о тех странных месяцах, что я жила и работала в подземном санатории в городке Великие Соли, вспоминаются мне не страх и беспокойство долгого спуска в земные недра в скрипучей клетке чуть облагороженного старого шахтерского лифта. Не высокие своды соляных пещер — запах древних морей, блеск кристаллов их стен, темные глади подземных соленых вод, тайны темных лабиринтов. То есть и они тоже, но первым делом, глядя в прошлое, вижу я свою юность — яркое цветное стеклышко, оставленное на старом фотоснимке. Все сквозь него кажется странным и волшебным, и блики пляшут по сводам моей памяти, как солнечные зайчики на кристаллах соли.
— Мы-то все тоже из соли сделаны, Бетка. Кровь, моча, пот, слезы, да что не возьми, все соленое, — говорит мне Мишка, наклоняясь, потому что высокий, и его темные глаза блестят, а лицо кажется очень бледным под лампой дневного света. Над нами — полкилометра земли и соли, немыслимая тяжесть. Вокруг — серые коридоры соляных забоев, которые снующие вокруг рабочие деловито разгораживают стенками, перегородками, дверями — деталями человеческого жилья. Дверь — это важно, если ты можешь ее закрыть за собою — ты в убежище, а если можешь в нее пройти, то есть выход, а значит ты в безопасности, даже в месте настолько странном, что в голову прийти не может, что кто-то захочет здесь жить и спать. В старину тут и работать никто не хотел, только каторжники ссыльные звенели цепями, а соляная пыль заживо разъедала их кожу. Я говорю об этом Мише и кладу на высокую фанерную тумбочку, только вчера собранную каким-то умельцем, стопку цветастых занавесок и постельного белья, на котором слово «Минздрав», отпечатанное сотни раз, образует затейливую, не лишенную эстетической приятности вязь.
— Ну, положим, «хотеть» лезть в шахту и тут ночевать никто не хочет, Бетка, — говорит Мишка задумчиво. — «Хотят» люди, чтобы им полегчало. Чтобы дышать можно было нормально. Чтобы боль ушла, спазмы расслабились, легкие не сжимались, аллергические реакции перестали отравлять организм. Вот чего люди «хотят». Избавления. И согласно нашим и зарубежным исследованиям, терапия соляным воздухом в течение трех недель гарантирует как минимум полгода ремиссии. А многим и вообще может помочь на всю жизнь. Ты-то знаешь, каково оно, когда дышать не можешь? Не то что под землю полезешь, но и к черту лысому в…
— В горло? — подсказываю я, когда он спотыкается.
— Пусть будет в горло, — улыбается Миша. — Но тут-то мы все обустроим по высшему разряду, да? Чего стоишь, Бетка, давай вноси лепту в уют, вешай свои занавески в пошлых цветочках…
Они не мои, а казенные, но спорить глупо. Из коробки лифта выносят ящики с оборудованием для физиотерапии уха, горла и носа, Мишка убегает, размахивая руками, он кричит «осторожно, дурачье!», и «угол поддержите!», и «уронишь — закопаю прям тут за поворотом!»
Миша Изюбрин. Мне вообще-то его было положено звать «Михаил Харитоныч», потому что он — врач, а я «сестричка-невеличка», только из медучилища, совсем еще зеленая, да еще и с веснушками этими дурацкими, неистребимыми ни тертой картошкой, ни огуречным соком. С ними я и вовсе не казалась взрослой уже женщиной-медсестрой, которой себя мнила. Девятнадцать лет — странное время в жизни, когда бури и шторма отрочества вроде как переплыл, получил профессию, готов к труду и обороне. Но мир вокруг при этом так нов для тебя, так свеж, будто ты без кожи по нему идешь, да еще и почти все, что с тобой происходит, происходит впервые.
Вообще-то я знаю, каково это, когда больно дышать. В детдоме у меня пять подряд лет были воспаления легких, каждый раз под новый год, как по расписанию, последнее уже и не чаяли вылечить, пенициллин не помогал. А в училище как курить начала — так и пневмония от меня сбежала, и для взрослости вроде как надо было, да и в общаге все так дымили, что если сам не куришь — не продохнуть.
Вот мы все весело гомоним в курилке, молодые и умеренно молодые сотрудники, обсуждаем предстоящую через неделю церемонию открытия «Санатория-профилактория по лечению хронических респираторно-легочных заболеваний № 3» (сокращенно — СППЛХРЗ, очередная нелепая корява в дойном стаде советских аббревиатур, хотя в народе уже прозвали «Соляшкой», отделив от «Солонки», как испокон веку звали сами соляные шахты).
Оля Дронова, незамужняя, двадцатипятилетняя, плотно утвердившая себя в роли моей старшей подруги и наставницы, полушепотом рассказывает мне, как правильно завивать на ночь волосы на тряпочки, и «лучше, чем на бигуди, выходит». Кудряшки у Оли и правда аккуратные, светлые, тугие, подпрыгивают, когда она смеется. Мимо курилки идет наш главный врач Сергей Дмитриевич Терехов, останавливается и оглядывает медперсонал.
— Мороз-воевода дозором обходит владенья свои, — громко шепчет Оля, встряхивает головой и чуть приоткрывает рот, призывно глядя на главврача, а тот вдруг показывает пальцем, но не на нее, а на меня.
— Вот ты, — говорит он хриплым голосом, по слухам под Сталинградом навсегда сорванным, когда он в тридцатиградусный мороз выносом раненых под артобстрелом командовал. — Ты, новенькая, с именем каким-то странным, да же?
Я робко лепечу про день рождения в мае сорок пятого, будто оправдываясь за себя и за маму, которая тогда еще надеялась, что муж может вернуться с фронта, и что младенца с именем «Победа» ей будет легче объяснить, а ему — принять. Терехов кивает невнимательно, будто слушает не мои слова, а что-то другое, потом перебивает.
— А ну-ка громко скажи чего-нибудь! Что угодно, но во всю грудь.
Я оглядываюсь — кто-то усмехается, Оля недоуменно пожимает плечами.
— Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть»! — кричу я лозунг с новенького плаката за курилкой, на котором бодрая и упитанная комсомолка с чемоданом едет работать туда, где важнее для страны.