Дарвинизм в XXI веке

На эти факты и вопросы неокатастрофисты реагируют по-разному. Некоторые просто игнорируют все, что не укладывается в «астероидную теорию». Другие пытаются, как говорится, «взять на глотку», подавить всякие возражения числом и научными регалиями ученых, подписывающихся под категоричными заявлениями типа «астероидная теория мел-палеогенового вымирания доказана — и точка!». Третьи, подобно герою известного анекдота, искавшего ключ не там, где потерял, а там, где светлее, увлеченно доказывают факт падения Чиксулубского метеорита именно в нужное время, высчитывают его происхождение, возможный химический состав, величину выделившейся при ударе энергии, краткосрочные последствия удара (цунами, пожары и т. д.) и прочие подробности — которые никто и не думал оспаривать, но тщательное обсуждение которых создает впечатление солидного обоснования всей теории[151]. Четвертые ради спасения любимой теории готовы объединиться со своими главными оппонентами-вулканистами[152], выдвинув теорию «комбинированного импакта»: мол, сейсмические волны от удара астероида спровоцировали чудовищные деканские извержения, а уж они-то… (Правда, извержения, приведшие к образованию индийского плато Декан, начались за добрых полмиллиона лет до Чиксулубского события. Но сторонников «комбинированной» версии это не смущает: они предполагают, что сотрясение планеты привело к слиянию относительно небольших магматических камер в более крупные, в результате чего извержения-де стали более редкими, но каждое из них оказывалось гигантским.) Пятые, признав сквозь зубы, что падению астероида предшествовало длительное вымирание динозавров, тут же заявляют, что это, мол, ничего не значит: колебания видового разнообразия динозавров происходили в мезозое неоднократно, и за каждым спадом обязательно следовал новый подъем — уцелевшие виды порождали целые букеты новых, эволюция группы продолжалась. И только в последний раз динозаврам, дескать, страшно не повезло: в самой нижней точке падения видового разнообразия на них обрушился астероид, который-де и погубил еще остававшиеся виды. А кабы не эта роковая случайность, они непременно восстановили бы свое разнообразие и процветали бы дальше[153]. (Это примерно то же самое, что сказать: да, покойный NN весь последний год своей жизни болел, и с каждым месяцем ему становилось все хуже, но умер он, конечно же, вовсе не от этого — он ведь и раньше заболевал, но всякий раз выздоравливал! Он бы наверняка опять выздоровел, но тут как раз мышка бежала, хвостиком махнула — и это, как на грех, пришлось на самый пик болезни, когда он был слабее всего. Так что погубила беднягу не болезнь, а мышка со своим хвостиком и ужасное невезение.) И т. д. и т. п. — изобретательность рыцарей науки при защите прекрасной Теории от непрерывно растущей банды отвратительных фактов[154] поистине не знает границ.
Мы так подробно остановились на астероидной теории мел-палеогенового вымирания потому, что она наиболее широко известна за пределами научного сообщества, сыграла роль образца для других «импактных» (то есть неокатастрофистских) теорий (и тем самым во многом определила общие черты этого семейства концепций) и к тому же имеет самый долгий опыт успешного противостояния оппонентам. Сегодня теорий такого типа циркулирует в научной литературе множество. Мы уже упоминали «вулканическую» гипотезу (претендующую на объяснение не только мел-палеогенового, но и крупнейшего из всех массовых вымираний — пермо-триасового). Есть гипотезы, приписывающие «импактные» причины вымиранию плейстоценовой (мамонтовой) фауны и т. д. — вплоть до вымирания отдельных видов. Любая из них может быть подвергнута такому же рассмотрению, но, чтобы проанализировать их все, потребовалась бы отдельная книга. Возможно, такую книгу в самом деле стоило бы написать, но та книга, которую вы держите в руках, — о другом. Об эволюции и ее механизмах.
Выше уже говорилось, что неокатастрофистские теории по сути неэволюционны — согласно им, эволюция (по крайней мере, макроэволюция) идет лишь будучи подгоняемой пинками-импактами. К этому можно добавить, что и особыми эвристическими возможностями эти теории, мягко говоря, не блещут. От того, что мы будем считать то или иное крупное изменение глобальной флоры и фауны результатом той или иной катастрофы, мы не узнаем ничего нового ни об этом эволюционном событии, ни об общих закономерностях эволюции.
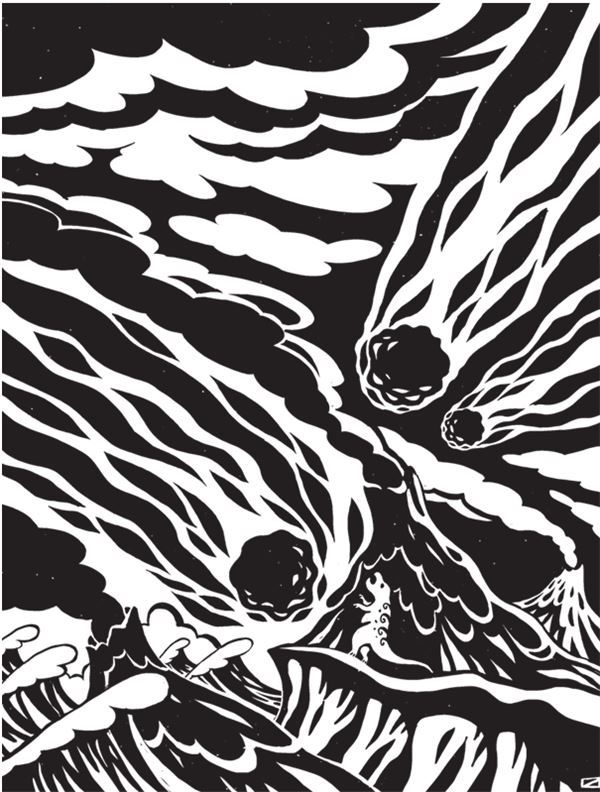
Импакт — это всегда чисто внешнее воздействие, никак не связанное с логикой предыдущего развития событий и принципиально непредсказуемое; своего рода
Почему же в таком случае импактные гипотезы сегодня столь популярны? На этот счет можно только строить предположения, причем очень разные. Высказывалось мнение, что большую роль в популяризации теории Альвареса сыграла информационно-пропагандистская и грантовая поддержка со стороны могущественной NASA, надеявшейся таким образом получить финансирование на разработку системы противоастероидной защиты. С другой стороны, поскольку постулированный Альваресом сценарий «астероидной зимы» был просто переписан со сценария «ядерной зимы» (предполагаемых последствий глобальной ядерной войны), критика этой теории воспринималась как косвенная критика антивоенного движения и чуть ли не поддержка милитаризма — что порождало конфликт с пацифистскими настроениями научного сообщества. Возможно, в первые годы после появления астероидной гипотезы эти факторы и сыграли свою роль, однако затем и угроза ядерной войны отодвинулась на периферию общественного дискурса, и влияние NASA заметно ослабло. Но астероидная гипотеза не только не утратила популярности в массовом сознании, но и проникла в профессиональное сообщество, а затем и заняла там доминирующее положение. И что еще важнее — как уже говорилось, в качестве основной альтернативы ей сейчас выступают такие же импактные гипотезы, прежде всего вулканическая.
Другие комментаторы указывают на общее падение культуры теоретизирования в современной биологии и склонность современных ученых искать простые и очевидные (а желательно — еще и легко иллюстрируемые) объяснения и в дальнейшем придерживаться их, невзирая ни на очевидные внутренние нестыковки, ни на противоречащие им факты. С этим можно согласиться, но такое положение само по себе требует объяснения.
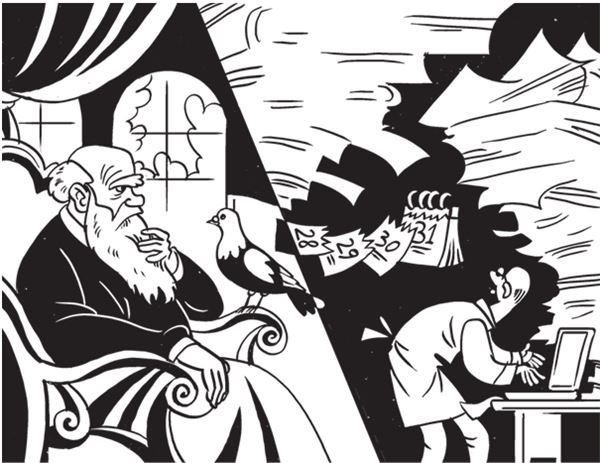
Думается, дело в том, что к концу ХХ века наука окончательно стала делом массовым, дорогим и сугубо профессиональным. Времена, когда результаты первостепенной важности мог получить любитель, занимающийся исследованиями в свободное время и на собственные средства (причем то и другое могло быть весьма ограниченным — как, например, в случае Менделя), прошли безвозвратно. Для серьезных исследований сегодня нужны ресурсы — которых всегда меньше, чем проблем, требующих исследования, и людей, готовых этими исследованиями заняться. И решения о том, кому выделить ресурсы, а кому отказать, принимают в конечном счете люди «внешние» по отношению к науке — политики и чиновники.
В этой ситуации «при прочих равных» более успешными оказываются те ученые, кто более способен объяснить суть своей работы и своих теорий этим ответственным лицам. (В демократических странах, где и сосредоточена сегодня бóльшая часть фундаментальной науки, ученому желательно уметь объяснить свою работу еще и широкой публике — налогоплательщикам и избирателям.) Понятно, что теории, живописующие красочные и драматические картины глобальной катастрофы — чудовищные взрывы, сверхмощные извержения, охваченные пожаром континенты, воцарившийся на всей планете мрак и холод и т. п. — в этом отношении имеют явное преимущество перед собственно
Впрочем, это всего лишь догадки, к тому же не имеющие отношения к предмету данной книги — от которого мы и так уже слишком далеко отклонились. Вернемся к нему. Итак, мы рассмотрели всевозможные альтернативы дарвинизму — научные и ненаучные, реально предложенные и теоретически возможные. И в разговоре о любой из них то и дело всплывал один и тот же мотив: все оппоненты дарвинизма, с каких бы позиций они его ни критиковали, основную часть своих трудов отводят под изложение тех фактов и феноменов, которые они считают необъяснимыми в рамках дарвинизма. При этом я неоднократно говорил, что эта «необъяснимость» (а порой и сами «факты») часто существует только в воображении противников дарвинизма. Но «часто» не означает «всегда». Элементарная честность требует не ограничиваться общей фразой «да, в современной эволюционной биологии все еще остаются трудности и нерешенные проблемы», а привести хотя бы некоторые из тех вопросов, на которые у современной теории эволюции ответов нет.
Глава 11. В ожидании объяснения
Вопросы эти делятся на две большие категории. В одном случае «нет ответа» означает «нет
Вопросы такого рода могут оставаться нерешенными в течение многих десятилетий и даже веков (некоторые из них были поставлены еще в XIX столетии), однако всегда есть надежда, что рано или поздно тот или иной вопрос будет решен окончательно. Как мы упоминали в главе 2, уже в нашем столетии завершился спор, тянувшийся еще со времен становления СТЭ, то есть более полувека[156]: существует ли симпатрическое видообразование? Несмотря на то, что косвенные свидетельства возможности (и широкого распространения) такого видообразования были известны по крайней мере уже в 1970-х годах, окончательно эта точка зрения восторжествовала только в середине 2000-х.
В последующих главах мы коснемся некоторых вопросов из этой категории, но здесь речь не о них. Нас будет интересовать другой тип вопросов без ответов — такие, на которые ответов действительно нет. Ни предположительных, ни конкурирующих друг с другом — никаких. Подобных вопросов не так уж много, но я не ставлю себе целью привести здесь их полный список. Мне важно показать,
Часто ли вам приходилось видеть синих бабочек? У европейских бабочек эта часть спектра почему-то не в чести: синий (точнее, голубой) цвет преобладает разве что в окраске самцов голубянок, да еще у нескольких видов (траурниц, адмиралов) этот колер представлен в виде маленьких пятнышек. А вот на Цейлоне много и голубых, и темно-синих бабочек, причем принадлежащих к самым разным семействам. Хотя вроде бы нет никаких разумных причин, по которым синие тона в окраске крыльев должны быть выгодны на Цейлоне, но невыгодны в Европе.
На первый взгляд — мелочь, случайное совпадение, биогеографический курьез. Но…
Вероятно, многие читатели с детства помнят навеянный множеством мультфильмов образ обезьян, которые цепляются за ветки не только всеми четырьмя руками, но и хвостом, могут висеть на нем и даже хватать им предметы — как, например, Бандерлоги в советской мультэпопее о Маугли. Те из зрителей этого мультфильма, которым довелось впоследствии побывать в Индии, были, наверно, разочарованы: тамошние храмовые обезьяны-лангуры хотя и отличаются длинными хвостами, но ничего подобного ими не делают.
На самом деле обезьяны, способные обхватить ветку хвостом и повиснуть на нем, действительно существуют — но не в Индии, а в Южной Америке. Это «фирменное ноу-хау» целого ряда южноамериканских приматов: капуцинов, коат, ревунов, паукообразных обезьян. Хвост у таких обезьян имеет специфические особенности: на его конце нижняя сторона (которая, собственно, и контактирует с захватываемым предметом) лишена шерсти, а структура кожи на ней подобна коже на ладонях и ступнях — вплоть до наличия папиллярных линий, как на пальцах. Существенно отличается и иннервация хвоста: в нее вовлечено гораздо больше нейронов мозга, как чувствительных (связанных с различными осязательными рецепторами), так и двигательных, что позволяет хвосту совершать гораздо более тонкие и точные движения, чем те, на которые способны хвосты лангуров и мартышек.
Все эти особенности, конечно, удивительны — но не более чем множество других поразительных приспособлений разных организмов к их образу жизни. Куда удивительнее другое: такими же цепкими хвостами с такими же (или сходными) приспособлениями обладает еще целый ряд южноамериканских млекопитающих, ведущих древесный образ жизни: два вида муравьедов-тамандуа, древесный дикобраз, родич енотов кинкажу и даже опоссумы. «Даже» — потому что опоссумы принадлежат к сумчатым млекопитающим (это единственная группа современных сумчатых, живущая за пределами Австралии и прилегающих к ней островов). И стало быть, эволюционно настолько далеки от обезьян (да и вообще от всех остальных цепкохвостых зверей), насколько это вообще возможно в пределах класса млекопитающих. Среди прочих членов «клуба цепкохвостых» близкого родства тоже нет. В частности, муравьеды — это сугубо южноамериканская группа, вся эволюция которой проходила только на этом континенте, в то время как южноамериканские обезьяны — потомки обезьян Старого Света, сравнительно недавно (26–40 миллионов лет назад) как-то попавших в Южную Америку из Африки.

Итак, в Южной Америке цепкохвостость встречается у целого ряда млекопитающих, относящихся к
Похожую картину являет географическое распределение кустарников с так называемым