И все мои девять хвостов И все мои девять хвостов
Но вы когда-нибудь слышали о бунтах в китайских тюрьмах? Конечно, не слышали. И дело не в цензуре. Подождать изменений проще, тем более если у тебя вечность впереди. Не в этой жизни, так в следующей обязательно подвернется случай махнуть хвостом и выскочить.
Ши брезгливо потыкал носком кроссовки бурый, чуть блестящий кусок. Нет, не настолько он голоден, чтоб грызть сырую печенку. Да еще и грязную! Но желудок заурчал. Алекс принюхался, повел носом. И вдруг осознал, что у него чешутся десны.
Запах сырой печени манил. Грязный, горячий, выворачивающий наизнанку, от него сводило судорогой внутренности и в то же время все больше хотелось схватить печень зубами, запустить в нее пальцы и рвать когтями, измазаться жижей по локти и по уши. Набить брюхо и валяться в сытой сладкой дреме, откинув хвост.
Десны чесались все сильнее, и Алекс уже чувствовал вкус крови. Своей крови от все еще человеческого языка и все еще человеческих щек, царапающихся о лезущие изнутри острые звериные зубы. Дурман нарастал, захлестывал, и вот Ши уже видел собственные руки, тянущиеся к вожделенной печенке. И руки эти были с короткими черными пальцами, покрытыми шерстью, но зато когти у них крепкие, длинные.
– Аф! – крикнул что есть мочи сам себе Алекс.
Лисье тявканье, вырвавшееся из уже заострившейся было морды, в которую начало превращаться холеное лицо молодого китайца, испугало и отрезвило его. Пачкаясь о пол, ползком, отпихиваясь ногами, еще похожими на лапы, на заднице, бывший красавчик Ши Алекс отползал, подвывая, от куска печени.
Он стянул с себя джемпер, спешно обтер им лицо и голову, где могли быть остатки запаха после удара печенкой, и накинул его на кусок. Никто не имел права не восхищаться его силой воли! Запаха почти не стало. На тощем теле Алекса, как в насмешку и словно издеваясь, кое-где торчали ярко-рыжие шерстинки. Это было совсем некрасиво.
А потом он услышал щелканье. И глумливое ржание. Кто-то снимал его на фото в мобильнике и смеялся. Алекс не стал смотреть.
– Не превратился? Надо еще попробовать, у нас много печенки! Не кормите его сутки, не может быть, чтобы шеф ошибся.
Больше всего Ши удивился, что голос сверху не был голосом ни одного из братьев Фан. Но виду не подал.
Глава 3
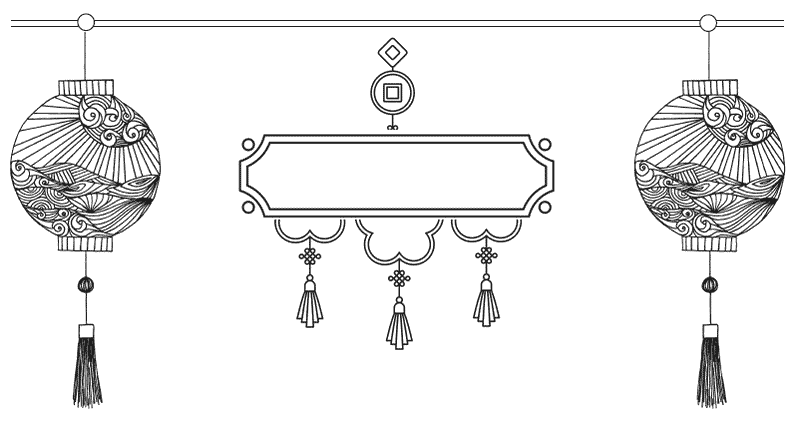
Привычку быть голодным нужно вырабатывать. Это непросто, даже если понятно зачем. Это трудно, если вкусно поесть – основная радость в твоей жизни и жизни окружающих. Бабушка радуется, когда внук кушает, и спешит готовить еще маленькому сокровищу. Дедушка поит сладкой водичкой, чтобы не похудел. Родителей видишь только за трапезой, с друзьями идешь в интернет и поесть. На улице везде тележки с едой и закусочные ряды. Два часа на обед, а могли бы и побольше выделить, и только в старых книгах герои ложатся спать с пустым животом. Или в кино, тоже старом.
А ты-то, ты рожден не в голодные годы, и не для того твои предки надрывались, чтобы ты голодал. Паровые булочки и рис – фу, хочу пять сортов мяса в лапше… И печень обжарить с маласянью…[22] Печень…
Свело скулы. Ши отвернулся к стене, чтобы не видеть, не чуять запаха уже преющей печени. Он знал, этот запах сводит его с ума, выворачивая шкурой наружу, а выворачиваться нельзя.
Старшие запретили. Сейчас Алекс не помнил точно почему.
«Легко заморочить голову одному человеку, но лучше, чтобы это был император», – всегда говорил отец. И ничего не пояснял.
Но как же хочется есть! Как хочется! Алекс чувствовал, что худеет, что живот сдувается и прирастает к позвоночнику, а ребра выпирают и вот-вот порвут кожу над животом. Он даже ущипнул себя за бок: есть ли еще за что ущипнуть. Было. Пока было. Но немного.
Обхватив себя руками, Ши то раскачивался из стороны в сторону, прикрыв глаза, как старик, то озирался: вдруг что-то изменилось. Терпеливо ждать изменений становилось все сложнее – очень хотелось есть, и зудело в животе и в голове. Он слышал, что за стенами кто-то есть, кто-то похожий на него и тоже страдающий. Но этот страдающий не просил помощи. Он просто страдал. И если прислушаться, страдающий был не один.
Чем больше хотелось есть, тем сильнее обострялись слух и чутье у Алекса.
В голодном полумраке своего сознания, в вонючем сумраке тюремного бетонного мешка он все отчетливее слышал стоны. Одни ближе, другие дальше. Целая улица стонов, улица, уходящая вдаль. Они стонали как дышали, не от боли, а от бессилия. Так тяжко больной не может вздохнуть полной грудью, так не слышит он, что из груди у него идет не воздух, а жалобный свист.