Дарвинизм в XXI веке
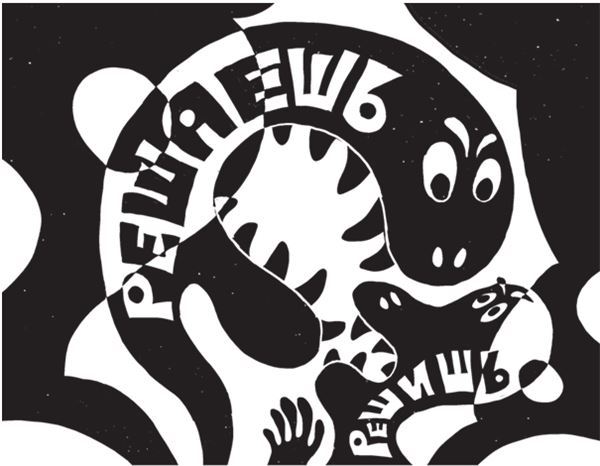
Итак, допустим, с конкуренцией в языке все в порядке, но вот вопрос: что считать аналогом
Можно, конечно, сказать: раз, мол, какой-то элемент языка вытесняется другим, значит, этот другой более приспособлен. Но «приспособленность», понимаемая таким образом, — это та самая тавтология, в которой любят «уличать» дарвинизм его идейные противники: дескать, дарвинисты утверждают, что выживают и размножаются наиболее приспособленные, но при этом приспособленными считают тех, кто успешнее других выживает и размножается — создавая тем самым замкнутый логический круг[233]. В биологии этот упрек несостоятелен: в целом ряде случаев (см. главу «Отбор в натуре») мы можем указать на конкретные качества, позволяющие обладателям одних генотипов выживать и размножаться успешнее, чем обладателям других, и доказать это прямыми экспериментами. Проще говоря, мы можем сказать,
Лингвисты установили, что преимущественные шансы на вытеснение конкурента имеет тот элемент (слово, грамматическая форма и т. д.), который уже чаще употребляется — «имущему дастся, а у неимущего отнимется». Но ведь это соответствует не дарвиновскому отбору, а генетическому дрейфу: чем ниже частота того или иного аллеля, тем выше шансы, что он будет вовсе потерян за счет чисто случайных процессов! С другой стороны, эта закономерность явно не универсальна — иначе как тогда вообще входили бы в язык новые элементы? Ведь в начале этого процесса они должны быть очень редкими. В биологии случайным утратам редких аллелей противостоит непрерывный мутационный процесс — а в языке что?
Другая модель языковых изменений, разработанная в 1930-х — 1950-х годах в основном Евгением Поливановым, Романом Якобсоном и Андре Мартине, постулирует в качестве их причины экономию усилий. Согласно этим взглядам, всякий говорящий невольно стремится минимизировать свои усилия: сливает воедино соседние звуки, «проглатывает» избыточные части слов, не необходимые для их распознавания, сокращает длинные слова (так, в русском языке «метрополитен» превратился в «метро», а «кинематограф» — в «кино») и т. д. Однако у этого процесса есть предел, когда элементы речи упрощаются и сливаются настолько, что слушающему становится трудно их понимать — и тогда «съежившееся» слово так или иначе наращивают (например, суффиксами). За несколько таких циклов слово меняется до неузнаваемости, а от исходного слова почти ничего не остается[234]. Не вдаваясь в подробное обсуждение этой модели (все-таки эта книга — не о лингвистике), заметим только, что описываемый ею процесс не только не похож на естественный отбор, но и вовсе не имеет очевидных аналогов в биологической эволюции.
Вообще, если присмотреться, принципиальных различий в том, как устроены живые организмы и человеческие языки, едва ли не больше, чем сходств. У языка нет ничего, что можно было бы считать аналогами генотипа и фенотипа. У языков (если считать их аналогами видов) не бывает «симпатрического видообразования», то есть развития в самостоятельные виды внутривидовых форм, обитающих на одной и той же территории: социолекты[235], в отличие от диалектов, никогда не превращаются в полноценные языки[236]. В главе «Стабилизирующий отбор: марш на месте» мы говорили о видах, словно бы выпавших из эволюции на миллионы, а в отдельных уникальных случаях — на сотни миллионов лет. Насколько можно судить, с языками такого не бывает никогда: скорость эволюции разных языков и в разные периоды может сильно различаться, но языков, которые вовсе избежали бы видимых изменений хотя бы в течение нескольких столетий, по-видимому, нет (за исключением разве что мертвых). Что наводит на мысль об отсутствии в языковой эволюции какого-либо аналога стабилизирующего отбора. Этот список можно продолжать и дальше, так что само по себе то, что механизмы эволюции языков и биологической эволюции не совпадают, в общем-то, не удивительно[237].
Удивительно другое — то, что при этом обе эволюции идут настолько похожим образом. Собственно, весь этот экскурс в лингвистику мы предприняли только для того, чтобы показать, насколько обманчивым может быть подобное сходство и насколько разные механизмы могут за ним стоять. Приходится признать, что именно в той небиологической дисциплине, где влияние теории Дарвина оказалось наиболее мощным и плодотворным, самая оригинальная составляющая этой теории — идея естественного отбора — не то что не пригодилась, но вообще не была замечена и осмыслена[238].
Однако в целом ряде других дисциплин (в том числе гуманитарных) именно идея отбора стала основой целых направлений, подходов и научных школ — порой весьма значительных и даже доминировавших в своих областях на протяжении многих десятилетий. Этим сюжетам и будут посвящены все дальнейшие части этой главы. Судьба этих попыток (как неудачных, так и плодотворных) позволит нам лучше понять, что нужно для того, чтобы механизм естественного отбора можно было использовать для объяснения того или иного круга явлений. А заодно — какие правила «техники безопасности» следует соблюдать при переносе плодотворной идеи в другую область науки.
Провал теории успеха
«Общественная жизнь» идеи естественного отбора оказалась довольно парадоксальной. В то самое время, когда в биологической литературе там и сям раздавались утверждения, что отбор — фактор консервативный, уничтожающий устарелые и неудачные варианты, но бессильный создать что-либо новое, в социологии пышным цветом расцвел социал-дарвинизм — прямое перенесение идеи естественного отбора на человеческое общество. Причем ограничивали отбор в биологии и утверждали его в социологии порой одни и те же люди.
В частности, Герберт Спенсер, уже знакомый нам как один из основателей неоламаркизма (призванного «дополнить» неспособный к творчеству отбор), в то же время известен как отец и глашатай социал-дарвинизма. Даже чеканная формула «выживает сильнейший» была впервые сказана именно Спенсером — и именно об отношениях людей в обществе[239]. Впрочем, не менее тепло идеи социал-дарвинизма приняли и философы совсем другого направления — от крайнего материалиста Людвига Бюхнера до русского революционного демократа Дмитрия Писарева. Возражали же им в основном моралисты, указывавшие, что к социальному успеху часто приводят не лучшие моральные качества и что социал-дарвинизм означает отказ от милосердия и сострадания. Поразительным образом ни одна сторона даже не пыталась рассмотреть хотя бы влияние «социальной форы» потомков преуспевших индивидуумов — положения в обществе, наследственного капитала и т. п. (В природе, как легко догадаться, даже от самых успешных предков потомки обычно наследуют только гены.)
Социал-дарвинистские взгляды сохраняли немалую популярность вплоть до 1940-х годов, причем не только среди философов и социологов, но и среди биологов — достаточно вспомнить уже упоминавшуюся книгу крупнейшего генетика-эволюциониста Рональда Фишера «Генетическая теория естественного отбора» (1930), последние пять глав которой целиком посвящены социал-дарвинистским построениям. Считается, что спад интереса к ним вызван тем, что одна из версий социал-дарвинизма легла в основу нацистской историософии, рассматривавшей мировую историю как борьбу рас и наций за существование. После краха нацизма и тотального осуждения его мировым сообществом скомпрометированным оказался и социал-дарвинизм как таковой.
Думается, однако, что куда большую роль сыграло другое. В середине ХХ века уже невозможно было не замечать: социальный успех как отдельных человеческих существ, так и целых народов не просто не равен успеху в дарвиновском смысле — они явно демонстрируют
Строго говоря, все это было известно и раньше: тот же Фишер прямо указывал на сниженную плодовитость британских привилегированных классов по сравнению с социальными низами[240], ссылаясь, в числе прочего, на данные Фрэнсиса Гальтона — того самого кузена Дарвина, который первым из ученых усомнился в наследовании приобретенных признаков (см. главу «Август Вейсман против векового опыта человечества»). Гальтон, пионер применения статистических методов в биологии, проводил свои подсчеты еще в викторианские времена. Но то, что в XIX веке намечалось как статистическая тенденция, в веке XX стало кричащей очевидностью. В 1944 г. американский историк Ричард Хофштадтер опубликовал книгу «Социал-дарвинизм в американской мысли», ставшую своеобразным почтительным некрологом идее.
Неудача была настолько сокрушительной, что о применении дарвинистского подхода к проблемам общества серьезная наука забыла на несколько десятилетий. Только в самое последнее время гуманитарии вновь начинают открывать для себя селекционизм. Оказалось, что помимо индивидуумов, родов, рас и наций в обществе существует очень много других достойных изучения феноменов — и среди них есть такие, к которым можно попытаться приложить эволюционный подход. Сегодня он лежит в основе множества самых разных исследований — от попыток реконструкции происхождения таких человеческих качеств, как чувство юмора, щедрость или групповая солидарность (в таких работах рассматривается именно классический дарвиновский отбор — правда, действовавший в доисторические времена и в форме группового отбора), до изучения факторов, влияющих на сравнительный успех коммерческих компаний и религиозных учений. Дарвиновским отбором пытаются объяснить характерные формы предметов материальной культуры в традиционных обществах (например, особенности конструкции полинезийских каноэ) и пространственно-временное распределение древних и средневековых империй, механизм распространения слухов и даже рост доли низкокачественных научных исследований. С легкой руки Ричарда Докинза не только в научном обиходе, но и в массовой культуре прочно утвердилось понятие «мем» — дискретная единица культурной информации, способная устойчиво копироваться, передаваясь от человека к человеку. По мысли автора термина (разделяемой сегодня весьма многими), мемы способны эволюционировать подобно единицам наследственной информации — генам. И если это так, то применение к ним тех теоретических моделей, которые наработаны за последний век в популяционной и эволюционной генетике, должно принести немало новых знаний в самых разных гуманитарных областях.
Насколько оправдан и плодотворен этот подход — покажет ближайшее будущее. Пока, во всяком случае, никакого переворота в гуманитарных науках «меметика» не совершила — как и селекционистский подход в целом. Зато уже сейчас видны некоторые теоретические ловушки, подстерегающие «гуманитарный дарвинизм» — несмотря на всю осторожность, с которой приверженцы этого подхода формулируют свои выводы.
Возьмем, например, феномен брака. С одной стороны, это несомненный социальный институт, существующий в любом человеческом обществе и занимающий в нем одно из важнейших мест; с другой — биологические корни этого явления настолько очевидны и несомненны, что их не рискнет отрицать и самый яростный противник «биологизаторства». Казалось бы, уж в этой-то области эволюционному подходу все карты в руки: взгляд на человеческий брак в контексте брачных отношений других высокоорганизованных животных должен прояснить очень многое в этом явлении; как минимум — позволить разграничить его биологическую и культурную составляющие и хотя бы в общих чертах представить их взаимодействие. И действительно, работ, рассматривающих те или иные аспекты брака и брачного поведения в эволюционном контексте, выходит немало. В основном они посвящены различным формам и особенностям брачных отношений в традиционных обществах, но нередко можно встретить и работы, например, об «эволюционной экономике свиданий» (выявление параметров, от которых зависит готовность кавалера заплатить за даму после совместной трапезы в ресторане и готовность дамы позволить кавалеру это сделать).
Но странным образом никто из сторонников «эволюционного подхода» (впрочем, как и из их оппонентов) не обращает внимания на один занятный факт. Мы знаем, что у животных вообще и у наших родичей-обезьян в частности можно найти невероятное разнообразие брачных систем: тут тебе и промискуитет, и ограниченный промискуитет, и гаремы, и многомужество, и «правильный» парный брак — моногамия (у одних видов более-менее строгая, у других — «дополняемая» регулярными нарушениями со стороны одного или обоих супругов), и еще более экзотические варианты. Кроме того, все это разнообразие реализуется в сообществах с различной и порой сложной социальной структурой, которая дополнительно модифицирует брачное поведение: например, в жестко иерархических сообществах доминирующий самец старается вообще лишить остальных самцов стаи доступа к самкам, а у других видов самка-доминант ухитряется даже подавить у соперниц цикл овуляции. Но нигде, ни у одного вида не обнаружена такая брачная система, при которой выбор брачного партнера был бы делом не самой особи, а кого бы то ни было еще. Проще говоря, вступивших в брачный возраст молодых животных не «женят» и не «выдают замуж» ни биологические родители, ни вожак-доминант, ни какие-либо другие члены стаи или стада[241]. Такого не бывает ни у каких видов животных… кроме нашего собственного. Практически во всех традиционных обществах, о матримониальных нравах которых мы что-то знаем, сами себе выбирают жен и мужей разве что вдовцы и вдовы, которых общество считает достаточно зрелыми, чтобы доверить им это серьезное дело.
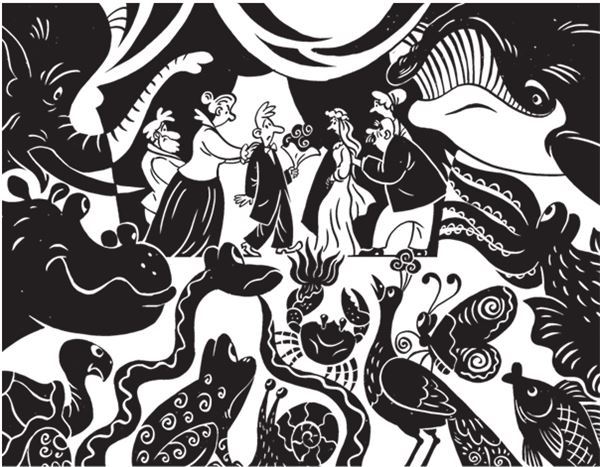
Этот порядок настолько универсален, что кажется естественным. Но в контексте брачных систем других видов он выглядит странным до извращенности. Как, когда и главное — почему он сложился? Не подлежит сомнению, что у предков человека было сложное брачное поведение. Оно, как и всякое инстинктивное поведение, никуда не делось, оно существовало во всех обществах, выливаясь в ухаживания и флирт, во внебрачные связи, в платонические романы и обычай «служения даме сердца» у средневековых рыцарей. (Заметим, что в этих крайних проявлениях половое поведение отделилось уже не только от брака как социального института, но и от собственной завершающей фазы — совокупления, став тем самым чисто символическим.) Но какая сила смогла оторвать этот огромный и важнейший сегмент поведения от его естественной области?
И каков был механизм этого отрыва? Как уже говорилось, молодые не вольны в своем брачном выборе практически во всех известных традиционных культурах. Обычно такой универсализм указывает на наличие у этого явления мощных биологических корней: собственно культурные факторы слишком разнообразны, чтобы с такой неотвратимостью приводить к одному и тому же результату. Но современное общество отказалось от такого способа заключения браков, вернув это право самим потенциальным супругам. Можно спорить, стало ли оно от этого счастливее, но сама возможность такого отказа заставляет сомневаться в биологичности этого явления: от врожденных поведенческих программ просто так, под влиянием одного лишь просвещения и духа времени, не откажешься. Не могут нам помочь и самые надежные инструменты эволюционных исследований — сравнительный метод и изучение ископаемых: нормы поведения окаменелостей не оставляют, а у наших ныне здравствующих родичей, как уже говорилось, ничего подобного нет, так что сравнивать не с чем[242].
Между тем вопрос о происхождении и механизмах «родительского права» естественным образом перерастает в более общий: как вообще возникли социальные институты? Эволюционный подход обычно выводит их непосредственно из отношений и взаимодействия особей в сообществах приматов — прежде всего человекообразных. Но все вышесказанное демонстрирует, что этот путь отнюдь не прям и не прост и что даже совершенно универсальные черты человеческого социума могут оказаться несводимыми к своим биологическим корням. Когда и почему человек стал принадлежать роду? Как возникли надындивидуальные нормы поведения — не установленные волей самовластного вожака или сознательным соглашением членов сообщества, но данные всем им как непреложная реальность и переходящие от поколения к поколению? Если их породила не сама человеческая натура — то что?