Дарвинизм в XXI веке
Однако, как уже было сказано, этот пример никак не опровергает теорию Дарвина как таковую: такие отношения складываются лишь тогда, когда для каждого из партнеров выгода, получаемая от них, превосходит собственные затраты, и поддерживаются лишь до тех пор, пока это так. Как известно, многие цветковые растения (злаки, осоки, целый ряд деревьев и т. д.) отказались от услуг живых агентов, вернувшись к ветроопылению или перейдя к самоопылению, — и ни у кого из них мы не найдем ни нектара, ни каких-либо приспособлений, полезных для опылителей. Да и у тех видов растений и насекомых, что сохраняют такие отношения, они далеки от бескорыстной взаимопомощи в духе князя Кропоткина. Как показывают современные исследования, партнеры в таких сделках то и дело пытаются надуть друг друга: насекомые — добраться до нектара, не утруждая себя опылением, а растения — побудить насекомых к опылению, не давая им ничего взамен. В долгосрочном эволюционном плане такое шулерство оборачивается «гонкой вооружений», невыгодной в конечном счете обоим партнерам. Но естественный отбор не может учитывать долгосрочные последствия — он поддерживает все, что выгодно здесь и сейчас.
Таким образом, существование сложных структур, приносящих выгоду другому виду, не опровергает, а подтверждает теорию Дарвина. А значит, и это высказывание Дарвина не годится в качестве доказательства фальсифицируемости дарвинизма. Можно, конечно, модифицировать дарвиновское условие — «…другому виду, не приносящему обладателю признака никакой пользы». Но по этому пути при достаточной эрудиции и изворотливости ума можно зайти сколь угодно далеко. В главе «Забытый кит» мы видели, как травоядные животные помогают своим основным «жертвам» — луговым растениям — отстоять, а то и расширить свою территорию. Значит, если бы у клевера или тимофеевки вдруг нашлись признаки, полезные не для них, а для травоядных животных, можно было бы и их счесть подтверждением теории Дарвина. Немножко потренировавшись в таких рассуждениях, можно научиться находить «косвенную пользу для обладателя» в любом признаке, кому бы он на самом деле ни был выгоден.
Собственно говоря, вот эта возможность одними только рассуждениями отыскать «биологический смысл» (то есть эволюционное преимущество) для абсолютно любого признака или явления и вызвала у Поппера сомнения в научности этой теории. Между тем именно такой подход был чрезвычайно распространен в «классическом» дарвинизме 1860-х — 1900-х годов. Натуралисты того времени проявляли порой чудеса изобретательности в трактовке случаев, на первый взгляд представлявшихся трудными для дарвинизма. Скажем, то, что у многих растений (особенно деревьев и кустарников) плоды сочные, с мясистой сладкой мякотью, естественным образом трактовалось как средство привлечения животных-распространителей: съев плоды, эти животные унесут в себе семена и «высеют» их вдалеке от материнского растения. Эта трактовка находит массу убедительных и порой неопровержимых подтверждений: от рощиц рябины или ирги, вырастающих под излюбленными местами отдыха фруктоядных птиц, и до неспособности семян некоторых видов прорастать без предварительного прохождения через птичий кишечник. Однако столь же яркий и привлекательный вид имеют и многие ядовитые ягоды — например, волчье лыко. Если яд — защита от поедания, то почему ягоды такие яркие и сочные? А если ягоды служат для привлечения поедателей, то почему они ядовиты? Но энтузиастов адаптивной трактовки это противоречие не смутило: столкнувшись с этим возражением, они тут же предположили, что аппетитные с виду, но ядовитые плоды растению вдвойне полезны — животное, съевшее такой плод, погибает, и его труп служит удобрением для прорастающих семян! Естественно, скелетов птиц или зверей, из которых росли бы сеянцы ядовитых растений, никто никогда не находил — да и не искал.

Как нечто само собой разумеющееся обсуждалась в те времена мифическая «защитная функция» рогов оленей (см. главу 3) — хотя никто не мог привести ни сколько-нибудь надежных наблюдений такого использования рогов, ни внятного ответа на вопрос, почему же столь полезное оружие есть только у самцов. И даже пресловутый павлиний хвост трактовался как защитное приспособление — средство отпугивания хищников: дескать, «павлин с распущенным хвостом кажется огромным, а „глаза“ создают впечатление, что тут много особей»[283].
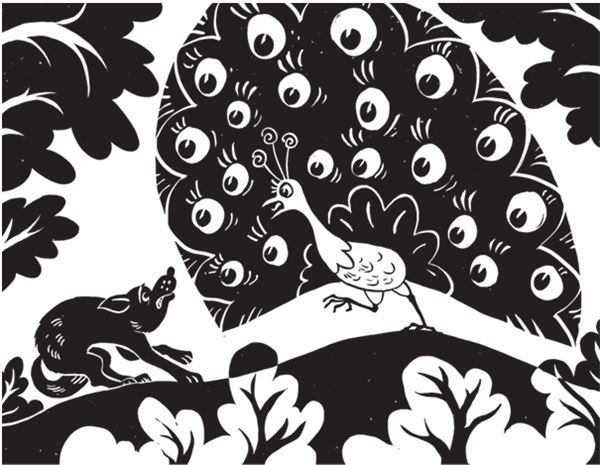
Пожалуй, своей высшей точки этот подход достиг в книге «Маскировочная окраска в животном царстве», выпущенной в 1909 году в США Эбботом Хендерсоном Тайером и его сыном Джеральдом. Эббот Тайер не был зоологом — он был одним из самых известных в то время американских художников. Но одной из постоянных тем его творчества были животные в их естественной среде обитания, и богатейший опыт наблюдения за ними позволил ему высказать ряд нетривиальных соображений. В своей книге он наглядно показал, как окраска, выглядящая яркой и контрастной на однотонном фоне, может совершенно скрывать животное в его естественной среде. Он первый обратил внимание на феномен расчленяющей окраски и предложил использовать ее в военном деле (результатом чего стала столь модная ныне «камуфляжная» раскраска ткани). Однако в результате он начал интерпретировать как «маскировочную» вообще любую окраску любых животных. Например, кричаще яркую окраску розовой колпицы и даже контрастный ало-розовый с черным наряд фламинго он объяснял тем, что такая расцветка якобы делает этих птиц незаметными в рассветных и закатных лучах.
И эта фантазия всерьез обсуждалась зоологами, причем никто даже не ставил вопросов, что делает колпица в другое время суток или каким образом могут оставаться незаметными многотысячные стаи фламинго[284].
Если не удавалось придумать даже столь притянутых за уши объяснений, всегда оставались запасные варианты. Пусть, мол, сейчас признак и не имеет сколько-нибудь заметного адаптивного значения, но наверняка он был чем-то полезен в прошлом. Скажем, у всех акул пасть имеет строение, характерное для придонных рыб. Но большинство современных акул живет в толще воды и не собирает корм со дна. Ну так, значит, предки акул были донными рыбами, позже их потомки по большей части сменили образ жизни, а рот остался там же, где был у предков[285]. (Подобные ссылки на былую адаптивность были почему-то особенно популярны при объяснении происхождения отличительных черт человеческих рас[286].) Другое универсальное «объяснение» состоит в том, что признак сам по себе не полезен, но прочно связан с каким-то другим признаком[287], на который и шел отбор. Ну а в самом крайнем случае всегда можно сослаться на то, что мы не знаем всех факторов отбора, которые действуют на данный вид или группу сейчас или могли действовать на их предков в прошлом. «Точные пропорции различных видов растений, количества каждого вида насекомых или птиц, особенности, связанные с большей или меньшей подверженностью воздействию солнца или ветра в определенные критические периоды, и другие небольшие различия, которые для нас абсолютно нематериальны и неразличимы, могут иметь огромное значение для этих скромных созданий и быть вполне достаточными для небольшой корректировки размера, формы или цвета, которую вызывает естественный отбор», — писал в 1899 году все тот же Альфред Уоллес, объясняя, каким образом могут быть адаптивными самые незначительные различия в окраске и форме разных видов наземных улиток, даже если эти виды живут в одной и той же среде.
Подобные интерпретации, как я уже сказал, в 1860-е — 1900-е годы воспринимались как вполне приемлемые и даже «дающие совершенно новый взгляд» на старые проблемы зоологии и ботаники. Но к 1920-м годам они уже изрядно вышли из моды в научном сообществе — которое в это время вообще переживало своего рода интеллектуальное похмелье от безудержного увлечения эволюционным подходом. Разочарование в нем стало естественной составной частью того кризиса эволюционизма и конфликта «старой» и «новой» биологии, о котором мы говорили в главе 8 и последующих главах. При этом, однако, подобные «объяснения» продолжали широко воспроизводиться в популярной литературе того времени, а также цитировались критиками эволюционизма — именно как пример бесплодности и бессодержательности эволюционного подхода.
В результате в образованном обществе — в том числе и у людей любознательных, но не связанных с биологией профессионально — сложилось представление об эволюционной теории именно как о системе полунатурфилософских спекуляций, правила которой позволяют обосновать и «объяснить» что угодно.
Вот в такой интеллектуальной атмосфере и происходило знакомство студента-математика Карла Поппера с дарвинизмом (хотя свою книгу Поппер опубликовал в 1935 году, размышлять над природой научных теорий и их отличий от иных типов доктрин он начал значительно раньше — еще в свои студенческие годы, пришедшиеся на первую половину 1920-х). Не удивительно, что он отнес ее к тем принципиально неопровержимым доктринам, которым он отказал в научности.
Впрочем, у него была на то и другая причина: центральный тезис дарвинизма — «выживание наиболее приспособленных» — казался ему (как и многим другим) тавтологичным. В самом деле, кто такие «наиболее приспособленные»? В одних случаях это могут быть наиболее крупные и сильные, в других — наиболее плодовитые, в третьих — наиболее устойчивые к самым распространенным инфекциям и т. д., но ни одно из этих качеств не может считаться
При этом сам Поппер признавался, что «был зачарован Дарвином, как и дарвинизмом» — то есть методом рассуждения Дарвина, логикой его теории. И этому вполне можно верить: он впоследствии неоднократно возвращался к этому вопросу, настойчиво отыскивая для дарвинизма место в познании, объявляя его то «ситуационной логикой», то «метафизической исследовательской программой»… А в 1963 году в своей знаменитой работе «Предположения и опровержения: рост научного знания», ставшей одной из ключевых в его наследии, он предположил, что само развитие науки происходит по дарвиновскому механизму — путем выдвижения разнообразных теоретических предположений и последующего отбора тех из них, которые наилучшим образом объясняют ту или иную совокупность фактов (то есть «наиболее приспособленных» для этого объяснения).
Честно говоря, при всем уважении к Попперу согласиться с этой идеей трудно. Разумеется, научные гипотезы, претендующие на объяснение одного и того же круга явлений, конкурируют друг с другом и результат этой конкуренции вполне можно рассматривать как своего рода «отбор наиболее приспособленных»[289]. Однако вряд ли кто-то в здравом уме возьмется утверждать, что сами новые гипотезы появляются в результате
Закончились эти противоречивые отношения, как мы уже знаем, примирением Поппера с дарвинизмом и официальным отречением от тезиса о «нефальсифицируемости» последнего. Но к такому финалу философа привели не пронесенная через всю жизнь неугасимая симпатия к дарвинизму и не старческое благодушие. Отчасти причиной стало более глубокое знакомство Поппера с теорией эволюции, отчасти — изменения, происходившие с самой теорией. На протяжении долгой, охватившей почти весь ХХ век жизни Поппера эволюционная теория менялась очень сильно — в том числе и с точки зрения методологических требований. Уже во время написания и публикации книги «Логика исследования», где был впервые сформулирован критерий фальсифицируемости и сделан вывод о несоответствии ему ряда широко известных теорий, дарвинизм существенно отличался от того образа полуспекулятивного догматического «учения», который сложился у Поппера в молодости. Полным ходом шла работа по формированию того, что позже получило имя «синтетической теории эволюции». Применительно к теме данной главы это означало, что качественные утверждения Дарвина и ранних дарвинистов получали количественную форму, вполне допускавшую проверку и опровержение. Начали появляться работы, прямо показывающие существование в природе селективных процессов, а методы генетики позволяли продемонстрировать, что при этом в популяции происходит рост частоты одних аллелей и снижение — других. Возможность вскоре превратилась в правило хорошего научного тона, а затем и в обязанность: теперь уже мало было выдвинуть более или менее правдоподобную гипотезу об адаптивном значении того или иного признака — нужно было хоть как-то проверить ее в наблюдениях или экспериментах. Именно таким путем была доказана в середине ХХ века эффективность маскировочной окраски (разумеется, не у фламинго или колпицы), предупреждающей расцветки у хорошо защищенных (ядовитых, жалящих и т. п.) животных, а также «бейтсовской мимикрии» — столь же яркой и характерной окраски совершенно безобидных видов, имитирующей окраску видов ядовитых.
Впрочем, как мы уже знаем, для решения вопроса о научности теории важны не подтверждения, а опровержения. И они тоже случались — но, в полном соответствии с разработанными к тому времени новыми представлениями о практике научной работы (концепцией «ядра и периферии» Имре Лакатоша и другими), не означали автоматического опровержения основной теории, а указывали на существование проблемы — и тем самым часто стимулировали новые открытия. Так, например, резкое несоответствие скорости накопления аминокислотных замен в белках ограничениям, следовавшим из разработанной Джоном Холдейном теоретической модели естественного отбора в популяции, привело к открытию нейтральных мутаций и разработке теории нейтрализма (см. главу 7). Все эти изменения происходили на глазах у Поппера, и игнорировать их он не мог — что и привело в конце концов к решительному пересмотру им своего давнего вывода.
Конечно, изменение мнения мэтра не означает, что вопрос о фальсифицируемости дарвинизма (как и вообще вопрос о применении критерия фальсифицируемости и его возможностях) решен раз и навсегда и полностью исчерпан. Применение критерия Поппера не является исключительным правом самого Поппера. Поэтому давайте бросим хотя бы беглый взгляд на то, как обстоят дела с фальсифицируемостью дарвинизма в его современном состоянии.
Вопреки расхожему мнению, что теория эволюции-де может все объяснить, но ничего не может предсказать, она предсказывает не так уж мало. Например, в 2007 году в Китае были найдены окаменелые останки примитивного млекопитающего, жившего в начале мелового периода (около 125 млн лет назад). Находка отличалась чрезвычайно высокой сохранностью слуховой части черепа: косточки среднего уха не только полностью уцелели, но и сохранили свое естественное положение по отношению к другим костям. Это позволило установить, что у этого животного они уже отделились от боковой поверхности нижней челюсти, но еще оставались соединенными с ней спереди. Существование именно такой переходной стадии у древних млекопитающих постулировал еще в 1975 году американский морфолог Эдгар Эллин[290]. Находка реального ископаемого, точно соответствующего теоретически предсказанной схеме, стала настоящим триумфом эволюционизма, а само животное получило название

Понятно, однако, что если бы столь замечательное ископаемое не было найдено никогда, это не опровергало бы никаких теорий. А если бы у ископаемого зверька строение косточек оказалось принципиально иным — это, возможно, опровергло бы построения Эллина, но не теорию эволюции в целом. Такие предсказания, сколь бы неожиданны и впечатляющи они ни были, нас сейчас не интересуют. Для нашей темы важны только достаточно «сильные» предсказания — те, которые утверждают
Есть ли такие предсказания в современной теории эволюции? Безусловно. Вспомним опыт Дельбрюка и Лурии (см. главу «Август Вейсман против векового опыта человечества»): если бы параметры распределения устойчивых клеток оказались иными, это означало бы, что дарвиновская модель данного процесса однозначно опровергнута — бактерии приспосабливаются как-то иначе. Можно, конечно, спросить, означало бы это, что опровергнута и вся дарвиновская модель эволюции (как мы помним, другие бактерии могут приобретать устойчивость к фагам иным, недарвиновским путем — однако открытие этого явления не опровергло не только дарвинизм в целом, но даже его применимость к эволюции бактерий) — но это уже относится к вопросу о том, насколько реальная практика науки соответствует базовой логической схеме Поппера. Сейчас же нам важен сам факт: из дарвиновской модели эволюции следовал вполне проверяемый вывод, он мог быть опровергнут экспериментом — но эксперимент его не опроверг.
Другой пример, уже из нашего века, о котором мы упоминали в главе 12, но теперь расскажем подробнее. В 2009 году канадские молекулярные биологи с типично канадскими именами Константин Боков и Сергей Штейнберг представили возможную схему возникновения рибосомы — мультимолекулярной внутриклеточной структуры, производящей все белки во всех живых клетках, от бактерий до человеческих нейронов. На первый взгляд задача выглядела совершенно неразрешимой: рибосомы не образуют окаменелостей, у них нет эмбрионального развития, наконец, у всех ныне живущих существ они довольно однотипны, никаких примитивных вариантов рибосом не известно[291], так что и сравнительная морфология тут тоже не помощник. Но Боков и Штейнберг нашли лазейку в этой глухой стене. Они исходили из того, что структурной основой рибосомы и главной ее «рабочей частью» служит так называемая 23S рибосомная РНК — цепочка из почти трех тысяч нуклеотидов (что для РНК очень много). Логично было предположить, что именно эта молекула и выполняла обязанности рибосомы у древних организмов. Однако она тоже слишком велика и сложна, чтобы возникнуть сразу в готовом виде.