— Стой! — скомандовал Копейкин, и я застыл, как при игре «замри». — Кто тебе разрешил выбегать? Ты же весь кадр испортил. Помощник, наведите в толпе порядок. Внимание! Приготовились! Начали!
Но начать не пришлось. Солнышко вдруг спряталось за длинную вереницу серых дождевых туч. Потом начал капать дождь, а затем пошел ливень.
Так в этот день и не снял Копейкин кадр проводов. Сделали его на второй день, а нас, чтоб мы, не дай бог, не выкинули еще какой-нибудь номер, Хомяков оставил возле себя, по эту сторону съемочной камеры. И пока шесть раз снимали эпизод, Константин Иванович сто раз повторил нам, что мы подвели всю киногруппу, съели из ее бюджета не меньше сотни рублей и задержали выход комедии на экраны на целый день. Было и стыдно, и скучно выслушивать нравоучения добродушного Полосатика, а главное, было грустно стоять здесь, когда вся флотилия стояла там. И надо же было случиться этому в последний день!
— Это хорошо, что в последний, — радостно шептал Генка. — А если бы в первый — представляешь? Дали бы нам с тобой сразу третий звонок и — привет.
Мой боцман, как всегда, был прав.
Откровенный разговор
Вечером мы провожали киногруппу на станцию. Нам было грустно расставаться с милым добродушным толстяком Константином Ивановичем, гримером Василием Михайловичем, который подарил мне бороду академика Занозина, а Генке усы уполномоченного по набору рабочих. Но больше всего наше звено грустило потому, что уезжала Маша Дробитова, которую в день приезда мы приняли за обыкновенную девчонку и не захотели отдать букет.
Потом-т мы с ней здорово сдружились. Она даже руководила у нас кружком художественного чтения. Маша так умела читать стихи, особенно про весну и про осень! А иногда, когда в нашу кают-компанию приходил адмирал, Маша читала стихи про любовь. И хоть они нам с Генкой не очень нравились, мы их все равно слушали с открытым ртом. Потом, когда мы увидели, как Маша и наш боевой адмирал гуляли по березовой роще, нам стало понятно, почему она читала стихи про любовь. А вчера они ушли в степь. Коля снял свою куртку, и они вдвоем присели на нее. О чем они говорили, мы не слышали — далековато было, но, прощаясь возле Дома культуры, Маша совсем расстроенно сказала:
— Может, ты все-таки надумаешь поступить в МГУ или Бауманское?
— Нет, Машенька, — печально ответил Коля, — я не могу бросить маму.
— Ну все равно, я рада, что встретила тебя. Я буду писать тебе…
— Я тоже.
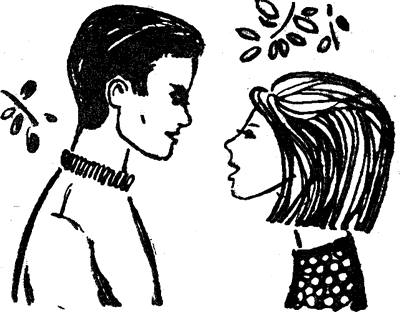
Потом Дробитова обняла адмирала, прикоснулась к его щеке и быстро убежала в клуб, а Коля, словно пьяный, медленно и неуверенно пошел на нас. Не успел я оттащить Генку в тень, как он подскочил к вожатому и задал глупейший вопрос:
— Коля, это вы репетировали сцену прощания?
Коля странно посмотрел на Синицына, потрепал его вихор и признался:
— Нет, Генка, я не репетировал, я по-настоящему прощался.
Он постоял, подумал о чем-то и спросил у нас:
— Может, и в самом деле махнуть в Москву?
— Зачем? — удивился Генка.
— Чудак ты, боцман, — грустно улыбнулся вожатый. — Она же учится во ВГИКе.