Пирог с крапивой и золой. Настой из памяти и веры
Изгой II
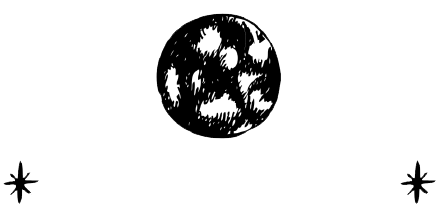
В пансионе Блаженной Иоанны все дни были одинаковыми. Да, мы ходили на разные уроки, а по воскресеньям – только на проповедь в соседнюю деревню. Но каждое утро было испытанием в равной степени.
Так вышло не сразу, примерно через месяц после начала занятий, когда девочки решили, что я больше гожусь для битья, чем для дружбы.
В городе дни недели все разные, у них будто бы даже есть свои цвета. Холодно-серый понедельник, от дыхания которого зябнет сама душа; блекло-персиковая среда, похожая на зимний рассвет; золотисто-розовая пятница, и воскресенье цвета абажура в папином кабинете, цвета бликов на полированном корпусе радио. Больше всего на свете я люблю воскресенья, пусть их вечера горчат неизбежностью. Но все же лучше них у меня ничего нет.
Сквозь стекла старых очков весь мир будто немного припыленный, а оттого уютный и какой‑то безопасный. Новые линзы будут готовы только через неделю, но это ничего.
Я устроилась животом на ковре, со всех сторон обложившись подушками. Дым папиной трубки плывет у меня над головой, ничуть не задевая, а сам он откинулся на спинку любимого кресла.
По воскресеньям мы вместе слушаем наш любимый радиоспектакль о юной королеве и ее фрейлинах. В прошлом выпуске одна из фрейлин отправилась на фронт, чтобы подбадривать солдат, а вторая искала похищенного у нее ребенка. Мне нравятся такие истории, потому что я люблю рисовать принцесс и других благородных дам в красивых платьях со шлейфами и воображать себя такой же, одной из них. В таких героинях прекрасно все, наверное, даже сами их сердца, пусть это всего лишь внутренний орган. Мне все равно. Я бы хотела быть такой героиней.
Папе в спектакле нравится другое, он говорит, что самое главное в этой истории – интрига и война. Что ж, каждому свое. Еще мне нравятся моменты, когда гремит гром – точь-в‑точь настоящий! – и скачут лошади – будто взаправду! А актеры? Я не слушала самые первые части и сначала даже подумала, что это живые люди. В тот момент, когда королева поняла, что бросила новобранцев в самоубийственную атаку, я даже заплакала. Но папа объяснил мне, что все понарошку. Это как книга, только прочтенная множеством людей вслух.
Дымные кольца вьются у меня над головой, навевая дремоту, укутывающую тяжелым зимним одеялом, пока карандаш скользит по бумаге, выводя складки изумрудного платья. Рука скользит, я скольжу тоже, все дальше… Нет, еще немного, еще чуть-чуть!
Так… так нечестно! У меня слишком мало времени, чтобы просто жить, так пусть воскресенье длится хоть чуточку подольше, пожалуйста! Не знаю даже, у кого я это прошу.
Позавчера я вернулась домой вся в ссадинах и синяках, с разбитыми очками. Мама была в ужасе. Папа был в гневе. А я? Не знаю отчего, но я была совершенно спокойна. Даже странно.
Ведь разве не полагалось мне, как побитой собачонке, скулить и дрожать, размазывать по лицу слезы вперемешку с соплями и дрожащим пальчиком тыкать себе за плечо, раз за разом повторяя имя ублюдка, который сотворил со мной такое?