Русская басня
22
18
20
22
24
26
28
30
КУМ
УРОК СУДЬЕ
СЕЛЯНИН С СЫРОМ
И.А. Крылов
ВОРОНА И ЛИСИЦА
МУЗЫКАНТЫ
ВОРОНА И КУРИЦА
ЛАРЧИК
ЛЯГУШКА И ВОЛ
РАЗБОРЧИВАЯ НЕВЕСТА
ПАРНАС
ОРАКУЛ
ВОЛК И ЯГНЕНОК
СИНИЦА
МАРТЫШКА И ОЧКИ
ТРОЕЖЕНЕЦ
ЛЯГУШКИ, ПРОСЯЩИЕ ЦАРЯ
МОР ЗВЕРЕЙ
СОБАЧЬЯ ДРУЖБА
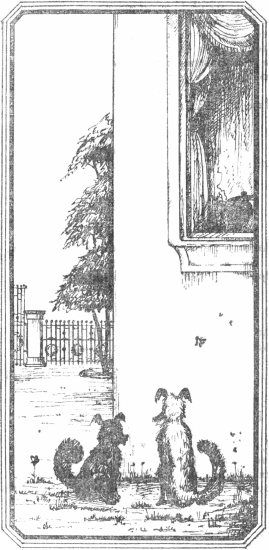
РАЗДЕЛ